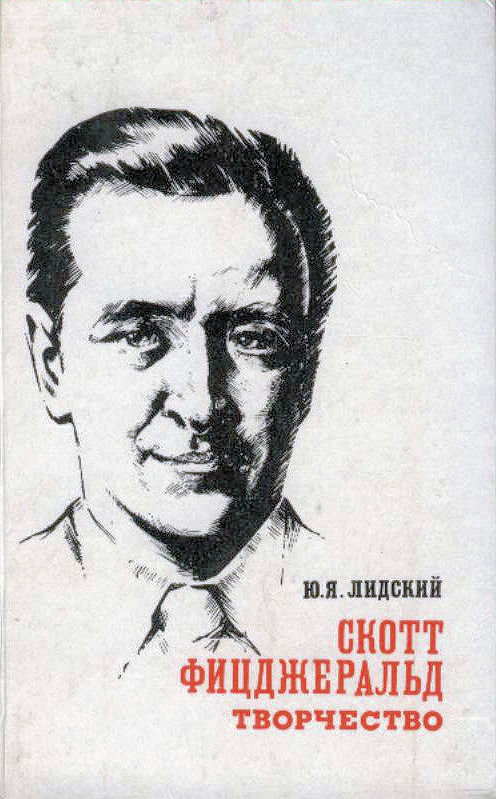Юрий Яковлевич Лидский
Скотт Фицджеральд - Творчество
Глава вторая
На пути к собственному роману
I
Над первой версией «Романтического эгоиста», романа, который в окончательном виде получил название «По эту сторону рая», Фицджеральд начал работать в 1916 г., будучи второкурсником Принстонского университета. В том же году рукопись была завершена, но опубликовать ее не удалось. В 1917 г., когда США вступают в войну, молодой писатель подобно многим своим однокашникам оставляет университет и уходит в армию. В учебном офицерском лагере он находит время, чтобы переработать рукопись, но издательство отвергает и этот вариант. После демобилизации в 1919 г. Фицджеральд приезжает в Нью-Йорк и становится служащим рекламного агентства. Сочинение реклам не приносит ни материального благополучия, ни морального удовлетворения. Зельда Сэйр, невеста Фицджеральда, разрывает помолвку, и Фицджеральд, оставив бесперспективную работу, уезжает в родной Сент-Пол, где вновь переписывает и дописывает свое первое большое полотно. В сентябре издательство Скрибнера принимает роман, который выходит из печати в марте 1920г.
Едва ли можно считать, что неудача с первыми версиями книги была результатом только неопытности начинающего автора. Хотя материал рукописей 1916 и 1917 гг. в переработанном виде вошел в окончательный вариант, его было еще явно недостаточно для отображения законченного периода жизни героя. Переписывая произведение в третий раз, Фицджеральд не только проходил литературную школу, но и получил возможность значительно дополнить роман, расширить его социальную сферу, углубить и лучше обосновать характер центрального персонажа. Впечатления 1917—1919 гг. несомненно имели в этом отношении решающее значение, так что взыскательность издательства сослужила писателю добрую службу.
Критика встретила роман в целом доброжелательно, но были и довольно резкие отрицательные отклики. Например, рецензент «Нью-Йорк Геральд Трибюн» Хейвуд Браун обвинял автора в наивности и незрелости, в том, что он плохо пишет [1]. Другие критики также отмечали многочисленные недостатки романа, но в то же время находили его заслуживающим внимания как искреннее и свежее произведение. О тоне критики дает представление рецензия в «Нью Рипаблик», начинающаяся словами: «Собрание сочинений Ф. Скотта Фицджеральда, опубликованное в виде романа под названием «По эту сторону рая», представляет собой удивительную и освежающую книгу» [2].
Забегая вперед, скажем, что критики имели все основания писать о недостатках романа, которых было так много, что прием, оказанный ему читающей публикой, мог показаться на удивление благоприятным. Читатели, особенно молодежь, встретили книгу восторженно. Она вошла в число бестселлеров, а Фицджеральд мгновенно стал знаменит как «глашатай поколения», выразитель дум и чаяний многих сверстников, которому удалось отобразить важные приметы времени, характерные черты американской действительности первых послевоенных лет.
Эдмунд Уилсон, в целом положительно оценивая книгу, справедливо писал, между прочим, что она «не только в высшей степени подражательна, но и подражает не лучшему образцу» [3]. Уилсон имел в виду ныне забытый роман Кемптона Маккензи «Мрачная улица», но в произведенин Фицджеральда заметны и другие литературные влияния. В частности, как неоднократно отмечала критика, влияние Джойса («Портрет художника в юности»), Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Шоу, Уэллса и некоторых других авторов. Вопрос о влияниях заслуживает специального рассмотрения, и здесь необходима существенная дифференциация.
В период создания первого романа Фицджеральд, по собственному признанию, «был пьян» Маккензи и действительно избрал в качестве образца вышедший еще в 1913 г. его большой роман «Мрачная улица». Некоторые общие мотивы английского и американского писателей обусловлены не только определенной общностью художественной задачи. В обоих произведениях нетрудно обнаружить и подозрительное сходство отдельных частностей. Так, третья книга романа Маккензи озаглавлена «Грезящие шпили», а у Фицджеральда одна из глав называется «Шпили и химеры»; число подобных примеров можно увеличить. Оба писателя подчас проводят своих героев через очень сходные испытания, у обоих весьма значительная роль отводится образам католических прелатов, наконец, и это, пожалуй, важнее, Маккензи обнаруживает привлекающее Фицджеральда незаурядное мастерство отбора характерных деталей и примет времени. Тем не менее, как верно отмечает А. Горбунов, едва ли стоит преувеличивать роль Маккензи в раннем творчестве американского писателя [4].
Если черты сходства, обнаруживающиеся в романах Маккензи и Фицджеральда, имеют в основном сугубо частный характер, то черты отличия оказываются принципиально важными, фундаментальными, и это, конечно, обусловлено не только различием дарований и даже национальной специфики. Роман Маккензи был опубликован до первой мировой войны, герой этого произведения не имел и не мог иметь того опыта, который оказался решающим для героя Фицджеральда. Духовный путь Эмори Блейна в самой сущности своей отличается от пути Майкла Фейна, метания которого заканчиваются принятием католицизма. Социальная сфера «Рая» принципиально иная, идейное содержание этого романа значительно шире, оно включает некоторые важнейшие идеи времени, и если духовное развитие Фейна в самом деле заканчивается с последней страницей «Мрачной улицы», то с последней страницей книги Фицджеральда заканчивается лишь определенный этап в развитии Эмори Блейна. Роман Маккензи замкнут, роман Фицджеральда открыт, и намеченная в нем линия поисков новой морали, новых ценностей, необходимых для поколения, отказавшегося от опровергнутых историей представлений, не может развиваться в тесных рамках конформизма. Остается лишь добавить, что собственно художественная ткань романа Фицджеральда мало похожа на художественную ткань растянутого произведения Маккензи.
Влияние Шоу, Джойса и особенно Уайльда в первом романе Фицджеральда слабее, чем Маккензи, хотя выступает отчетливо. Едва ли можно согласиться с критиком Харланом Хэтчером, когда он объявляет технику писателя ультрамодернистской на том основании, что Фицджеральд якобы прибегает к импрессионистическому стилю, идущему от упоминавшегося романа Джойса [5]. Более справедливым представляется мнение К. Кросса, который находит технику Фицджеральда в первом романе скорее кинематографической, чем импрессионистической, поскольку действие движется рывками, как в первых фильмах [6]. Действительно, Джойс обдуманно и последовательно придерживался избранной им манеры повествования, проявляя при этом высокое мастерство. Фицджеральд же в период создания «Рая» еще не обладает мастерством романиста, и характер движения «рывками» в его романе обусловлен скорее отсутствием разработанной техники письма. Критик Джеймс Миллер-младший абсолютно прав, замечая: «Эпизоды (романа «По эту сторону рая».— Ю. Л.) взаимосвязаны, поскольку в совокупности обрисовывают воспитание героя, но объединяющая роман единая сюжетная линия отсутствует» [7].
Вообще, когда в связи с первым романом Фицджеральда речь заходит об Уайльде, Шоу, Джойсе, Маккензи и некоторых других писателях, уместнее, нам кажется, говорить не о влиянии в широком смысле слова, а об отдельных элементах подражания — результате писательской неопытности молодого американца. Иначе обстоит дело с Уэллсом, ибо он действительно оказал значительное влияние на раннее творчество Фицджеральда-романиста, и проявляется оно не в сюжетной параллели или «шовианской» ремарке. В обоих больших полотнах, предшествующих «Великому Гэтсби», Фицджеральд более или менее последовательно придерживается эстетики так называемого дискурсивного романа, причем именно в той редакции, которую эта эстетика получила в известной статье Уэллса «Современный роман» (1911).
Вслед за Дж. Миллером младшим А. Н. Горбунов справедливо выделяет следующие основные положения школы дискурсивного романа по Уэллсу: «...характер, а не действие является центром романа; в романе не может быть ненужных или случайных эпизодов (единство книги создает ее общее настроение); вмешательство автора в ход повествования — законное право писателя; роман должен служить средством для обсуждения насущных проблем современности» [8]. Возникновение этой школы связано, как известно, с просветительским романом. Естественно, с течением времени она претерпела определенные изменения, и здесь нам особенно интересны некоторые «антиэстетические» принципы Уэллса, которые подчас находят воплощение и в его художественной практике.
«Я, — заявляет Уэллс, — никогда не прилагал особенных усилий, когда писал... Давным-давно, живя в близком соседстве и постоянно общаясь с Генри Джеймсом, Джозефом Конрадом и мистером Фордом Мэдоксом Хьюффером (писатель Форд Мэдокс Форд.— Ю. Л.), я спасался от их безмерных художественных забот, называя себя журналистом». И дальше: «Литература... не ювелирные изделия, у нее совсем другие цели, чем совершенство, и чем больше думаешь о том, «как это делается», тем меньше это делаешь» [9]. Такая программа подходила Уэллсу, потому что главным для него было отчетливое и действенное, зачастую густо окрашенное публицистически выражение занимавших его идей. В его собственном художественном творчестве столь откровенно высказанное пренебрежение формой нередко бывает кажущимся, но для писателей другого темперамента, других склонностей и тем некритическое следование принципам дискурсивного романа, особенно же в предложенной Уэллсом модификации, естественно, чревато опасностью серьезного художественного просчета.
Шутка критика, назвавшего «По эту сторону рая» «собранием сочинений» Фицджеральда, таила в себе большую долю правды. Писатель включил в роман довольно много стихотворений, сочиненных им раньше и по другим поводам, и некоторые из собственных рассказов. Он и в дальнейшем использует в крупных произведениях удачные эпизоды или просто отдельные фразы из своих же рассказов, но уже никогда не введет в один роман такого количества автозаимствований. Ни в одном из последующих романов писателя не будет и такого разнообразия форм, к тому же ничем не оправданного. Хотя в основном писатель ведет повествование от третьего лица, мы находим в книге не только стихи или письма, но и чисто драматургическую форму, причем в сценах, где выясняются отношения героя и его возлюбленной. Возможно, Фицджеральд хотел таким образом выделить основной эпизод романа, но попытка оказалась неудачной, так как не была обусловлена внутренней необходимостью.
Вообще при характеристике «Рая» то и дело приходится прибегать к слову «самый». Это и самый автобиографический из всех романов писателя, и самый рыхлый из них, и самый разностильный, и самый насыщенный всякого рода рассуждениями, среди которых, заметим кстати, есть уже не просто «самые», а явно чрезмерно растянутые. Разумеется, перечисленные особенности романа отнюдь не способствуют его цельности, не умножают его художественных достоинств, и многие критики считают, что сегодня это произведение представляет интерес либо как ступенька в творчестве выдающегося писателя, либо как интересный документ ушедшей эпохи. Обе точки зрения, по-видимому, в основном справедливы.
«По эту сторону рая» — ярко выраженный роман «воспитания», имеющий давнюю литературную традицию. Сенсационный успех книги был обусловлен тем, что она оказалась первой в США, искреннее и непосредственно выражавшей настроения разочарования, недовольства и бунта, столь характерные для молодежи 20-x годов. Герой романа Эмори Блейн — «экзотическое дитя Америки», по удачному выражению М. Гайсмара [10],— проходит школу воспитания чувств, формирования характера, мировосприятия, и сюжет произведения оказывается простым именно потому, что определяется естественным процессом взросления героя. В самом деле, время и действие в романе легко представить в виде направленной прямой, состоящей из дискретных отрезков. Дискретность эта объясняется уже упоминавшимся отсутствием единой сюжетной линии. В основном она же определяет и рыхлость повествования.
Композиция «Рая» не столь проста, и ее относительная сложность, а также некоторые особенности развития сюжета уже в это время предвещают характерную для зрелого романа Фицджеральда сложную структурную организацию, то художественное единство, которого в первом большом произведении писатель достичь не сумел. Роман делится на две книги с небольшой интерлюдией между ними. Первая книга («Романтический эгоист») заканчивается уходом Эмори Блейна из университета в армию. «Интерлюдия» («Май 1917 —февраль 1919»), по замыслу, должна отобразить военный опыт юноши. Вторая книга («Воспитание личности») показывает превращение Эмори в личность. Уже это деление подчеркивает то значение, которое автор придает военному опыту героя. Писателю ясно, какое место занимает война в умах молодежи 20-х годов. Война, вызванные и сфокусированные ею настроения незаметно окрашивают всю вторую книгу романа. А. Н. Горбунов справедливо пишет: «Именно под воздействием военных событий Эмори и превращается в первого представителя «потерянного поколения» в американской литературе» [11].
Композиция книги, таким образом, представляется в высшей степени логичной, но стоит обратиться к тексту, как обнаруживается очень существенная слабость. В романе множество мелких эпизодов. Все они по-своему важны, но многие из них по своему значению для духовного мира героя не идут ни в какое сравнение с окопным опытом, а этот-то опыт в книге всего лишь декларируется. Фицджеральд не был на фронте и не решился писать о том, чего не видел и не испытал. Поэтому и вся «Интерлюдия» состоит из двух писем, отмечающих начало и окончание военных испытаний, а сами эти испытания, столь необходимые в романе такого типа, вынужденно и неоправданно передоверяются воображению читателя. Контраст между ярко выписанными небольшими эпизодами и откровенно схематичным и условным представлением войны лишь подчеркивает появившуюся в повествовании лакуну, тот пробел, который невозможно ни скрыть, ни восполнить искусственно.
Фицджеральд до конца своих дней жалел, что ему не пришлось принять участие в боевых действиях, получить неоценимые для писателя впечатления. Можно лишь строить догадки о том, какими были бы его книги, если бы судьба распорядилась иначе. Не вдаваясь в абстрактные рассуждения, заметим лишь, что Фицджеральд был достаточно чутким и талантливым художником, чтобы первым в литературе США отразить вызванный войной моральный «сдвиг». С другой стороны, вероятно, не будет слишком большой натяжкой предположение, что в отличие от многих «потерянных» писатель смог так рано увидеть, оценить и показать существенные социальные пружины западного мира 20-х годов, потому что сознание его не было поражено военным шоком. Едва ли не самой важной из таких пружин являются деньги. Деньги и их воздействие на человека, как уже говорилось, — одна из основных и постоянных тем Фицджеральда, центральная проблема всего его творчества. Своеобразную разработку тема эта получает уже в его первом романе.
Эмори — сын очень богатых родителей. Когда но дороге в Европу с ним случается приступ аппендицита, огромный океанский лайнер поворачивает назад, подчиняясь требованию утонченнейшей Беатрисы Блейи, принцессы аристократии денег и по-своему заботливой матери нашего героя. Не случайно первая глава романа называется «Эмори, сын Беатрисы». Дело тут не в возрасте героя. Действительно, на протяжении многих страниц Эмори никак не может стать самим собой, долгое время он существует лишь как «Эмори плюс Беатриса». Деньги препятствуют духовному и интеллектуальному развитию, их блеск ослепляет. Чтобы превратиться в личность, эгоист у Фицджеральда должен не только пройти войну, но и потерять состояние. Так в сюжете романа возникает исключительно важная линия.
Еще в 1945 г. известный критик Малькольм Каули выдвинул тезис о «двойном видении» Фицджеральда, постоянно показывающего блеск богатства, окутывающего героев «дымкой восхищения», но одновременно и разгоняющего эту дымку. «Он,— замечает критик, — всегда любил писать о «тех местах, где молоко разбавляют водой, к сахару примешивают песок, стекло выдают за алмаз, а штукатурку за камень» [12]. В сущности М. Каули говорит о том, что В. Р. Гриб относительно творчества Бальзака называл «поэзией отрицательных величин». «Двойное видение» заметно в анализируемом романе, причем проявляется оно по-разному преимущественно при обрисовке образов Беатрисы, Эмори и любимой им Розалинды, а также в изображении Принстона. О женских образах речь впереди. Что же касается Эмори, то необходимо отметить следующее. С историей разорения героя связана и художественная убедительность его образа, и вся основная социальная проблематика произведения в целом. Какими бы «рывками» ни двигалось повествование в романе, становление героя, воспитание его чувств и интеллекта, как показывает Фицджеральд, представляет собой постепенный и длительный процесс. Потому-то, между прочим, вызывает удивление следующее утверждение А. Н. Горбунова: «В одной из глав, где-то в середине книги, читатели неожиданно узнавали, что родители героя умерли, разорившись и не оставив ему средств к жизни» [13]. Так ли это?
Первое известие об уменьшении доходов семьи Блейн обнаруживается уже во второй главе романа. В конце той же главы автор находит случай сообщить о новых финансовых потерях отца Эмори. О смерти отца и резком уменьшении состояния говорится затем в третьей главе, а потом эта тема поднимается снова в первой главе второй книги, и только в третьей главе второй книги Фицджеральд сообщает об окончательном разорении героя. К этому можно добавить, что лишь первые известия о материальных затруднениях почти никак не связаны с развитием сюжета и возникают вдруг, неожиданно. В дальнейшем же автор пытается связать эту линию с другими. Правда, результат совсем неубедителен, но причиной тому вовсе не внезапность сообщения. Тема денег настолько важна в романе, что едва ли уместно выносить ее на периферию повествования. Между тем включить ее в непосредственное действие автор не может. Эмори все время участвует в действии, проходит передним планом, его реакция или состояние всегда в центре внимания автора и читателя. Эпизоды, в которых это «правило» нарушается, можно буквально пересчитать по пальцам. А вот разорение героя — один из основных моментов, определяющих становление личности в романе,— происходит как бы совсем помимо Эмори, что и создает видимость неоправданной случайности и внезапности. Так в разработке и этой сюжетной линии отразились тяга писателя к строгой структурной организации и неумение ее добиться.
Еще одной важной особенностью разработки сюжета является окрашивающая все повествование моральная струя, чрезвычайно важная для понимания внутреннего состояния героя. Это не раз отмечала американская критика [14].
Литература «потерянного поколения» порицает и отвергает прежде всего морально-этические представления, которые вплоть до 1914 г. многим казались незыблемыми. Если мы говорим о ее бунтарском характере, то, во-первых, имеем в виду бунт против отжившей морали, внезапно и крайне резко обнаружившегося социального лицемерия и ложности множества высоких понятий, на поверку оказавшихся пустыми словами. Подобно большинству «потерянных», Фицджеральд обладал острым чувством морали и в первом же романе с полной откровенностью рассказал о нравственных переменах в США 10—20-х годов.
В процессе превращения эгоиста в личность моральный план, естественно, имеет первостепенное значение. Здесь важен не только собственно образ Эмори, но и этическая критика всех социальных сфер, с которыми так или иначе соприкасается герой. Эта критика существенна и для характеристики Эмори, так как еще в первой книге романа расстояние между автором и героем почти совершенно исчезает и Эморн начинает восприниматься как alter ego автора. Критика давно подметила, что социальное и этическое для Фицджеральда неразрывно связаны и связь эта проявляется в отображении самых разнообразных аспектов действительности. Так, Бад Шульберг с полным основанием объявляет «По эту сторону рая» «первым и, вероятно, единственным романом, который проникает под тонкую, лакированную поверхность жизни американского колледжа» [15]. Столь же справедливо утверждение Артура Майзенера: «Фицджеральд с энтузиазмом откликнулся на попытку его поколения жить более полно и счастливо, чем их родители, и на их уверенность, что, делая это, они более честны и не так лицемерны» [16]. О том же писали и многие другие критики. Нравственная тенденция романа не вызывает сомнений, но ее отображение заслуживает внимания, потому что и в нем проявляется тяготение Фицджеральда к строгой организации повествования, которая еще не по силам начинающему романисту, к тому же следующему принципам дискурсивной школы. Рассмотрим несколько характерных примеров.
В самом начале романа есть эпизод, повествующий о том, как Эмори, совсем еще мальчик, впервые поцеловал девочку: «Внезапно Эмори охватило отвращение, все стало ему гадко, противно. Хотелось убежать отсюда, никогда больше не видеть Майру, никогда больше никого не целовать; он словно со стороны увидел свое лицо и ее, их сцепившиеся руки, жаждал одного — вылезть из собственного тела и спрятаться подальше, в укромном уголке сознания» (I, 42). Здесь между героем и автором еще существует принципиальная дистанция, и Фицджеральду удается достичь сложного эффекта в обрисовке реакции Эмори. В критике проскальзывало мнение, что отвращение, охватившее Эмори после поцелуя, вызвано сознанием вины, так как мальчик нарушил воспринятые с молоком матери викторианские нравственные нормы. Против этого нечего возразить. Но эпизод живет, а не превращается в сухую иллюстрацию именно потому, что наряду с этим внешним аспектом обладает аспектом внутренним, относящимся к психологии возраста. Это эпизод частный, но в дальнейшем, когда повзрослевший Эмори попадает в сопоставимую ситуацию, внутреннее, психологическое обоснование его действий оказывается намного менее убедительным.
Более общим случаем является попытка писателя представить в истории Эмори и Розалинды насыщенную смыслом параллель истории Беатрисы и молодого человека, ставшего впоследствии монсеньером Дарси, духовным отцом Эмори. Параллель эта заметна, но теряет в своем значении, так как во второй книге романа монсеньер Дарси как бы выпадает из сюжета: его встречи с Эмори, его отсутствие, когда он необходим герою, наконец, его смерть — все оказывается случайным, зависящим исключительно (или почти исключительно) от произвола автора, но отнюдь не обусловленным логикой развития сюжета.
Рассмотрим в общих чертах вторую книгу романа. Первая же глава этой части содержит центральный эпизод всего произведения — историю любви обедневшего Эмори и Розалинды, которая, боясь бедности, жертвует возлюбленным ради нелюбимого молодого человека, обладающего миллионным состоянием. Эпизод вводится исключительно своевременно. Эмори только что возвратился из армии. Он не просто стал взрослым. Для него любовь к Розалинде особенно важна, она обретает всеобъемлющий характер как раз потому, что противостоит настроению «потерянности». В охватившей героя страсти незримо присутствует война, отражается реакция на пребывание в окопах. На протяжении романа Эмори увлекается многими девушками, но лишь чувство к Розалинде оказывается настоящим и прочным, а разрыв, обусловленный несправедливым социальным устройством, таит в себе возможность подлинной трагедии. Критик Ф. Хоффмен писал об Эмори: «Подлинная зрелость героя наступает лишь после того, как он основательно разобрался в том, что такое любовь и что такое деньги» [17]. В истории любви Эмори к Розалинде тема денег, тема войны и тема морали сливаются воедино. Весь роман стремился к этой главе, и, в сущности, с нею он мог бы закончиться, так как в любовной истории героя отображены все основные идеи произведения. Кеннет Эбл поэтому не без основания пишет: «Вторая книга романа представляет собой в действительности историю Розалинды и Эмори, последующий материал является чем-то вроде приложения ко всей книге» [18]. Критик прав, но дело в том, что «приложение», растянувшееся на добрых восемьдесят страниц, необходимо автору, и прежде всего — для выяснения социально-этического аспекта основной тематики романа. Другими словами, «приложение» возникло в книге в результате противоречивой организации повествования.
До сих пор мы рассматривали взаимно противодействующие тенденции в сюжете и композиции романа в связи с его существенными идейно-содержательными аспектами. Но действие противоположно направленных сил отражается на всей структуре произведения как такового. Выше уже отмечалась характерная для «Рая» дискретность в отображении времени и действия, выяснены были и ее причины (отсутствие единой сюжетной линии). Тем не менее отдельные эпизоды время от времени обнаруживают, как бы независимо от воли автора, интегра-тивную тенденцию, стремление сливаться в крупные единства. Внутренняя связь, объединяющая несколько мелких эпизодов, впервые заметна во второй главе первой книги, где четыре эпизода («Новое в жизни Америки», «Описательная», «Изабелла», «Младенцы в лесу») представляют собой единство и в плане действия, и в идейном аспекте. В меньшем масштабе то же явление заметно в четвертой главе первой книги («Клара», «Святая Цецилия», «Эмори недоволен», «Многое кончилось») и в третьей главе второй книги. Но особенно интересны крупные единства второй книги. Одно из них охватывает всю первую и часть второй главы, то есть практически всю историю Эмори и Розалинды. Уже само это единство может свидетельствовать об идейном значении любовной коллизии в романе. Второе единство включает последнюю главу романа и достигается, при наличии определенной дискретности действия, единством движения мысли Эмори. Таким образом, интегративная тенденция в структуре романа проявляется по-разному, и, вероятно, можно считать, что этот факт предвещает те возможности организации романа, которые Фицджеральду предстоит воплотить только в «Великом Гэтсби».
Двойственные, взаимно противодействующие тенденции ощущаются при рассмотрении почти каждого важного эпизода романа. Они особенно заметны, когда включаются в повествование, отмеченное чисто фицджеральдовскими чертами восприятия и отображения действительности, то есть там, где отчетливо выступают характерные признаки собственного стиля писателя. Один из таких признаков легко обнаруживается в анализируемом произведении. Фицджеральду было свойственно обостренное чувство времени, он всегда точно подмечал и использовал в своем творчестве множество живых примет каждого конкретного момента. М. Каулн писал: «Больше, чем любой другой писатель тех времен, Фицджеральд чувствовал, что живет в истории. Он очень старался уловить оттенок каждого проходящего года...» [19]. Действительно, каждое крупное (и многие мелкие) произведение писателя может читаться как своеобразная и безошибочная энциклопедия разнообразнейших примет времени. Время обретает весьма существенное значение и в действиях персонажей «Рая», во всем их поведении. Время как бы само появляется на страницах произведения, но тут же, как правило, обнаруживаются и «дискурсивные» рассуждения автора. Так намечается противодействие двух стилевых манер, а в результате нарушается единство и целостность художественной ткани повествования, и убедительная жизненная картина, настоящее художественное достижение, может, к сожалению, показаться чем-то даже второстепенным, вроде красочной иллюстрации к информативному сообщению. И хоть до таких крайностей дело доходит редко, все же в подобном случае возникает определенный художественный диссонанс. Кроме того, в романе заметно некоторое «злоупотребление» приметами времени. Писатель дает их много, но не всегда достаточно придирчиво отбирает по качеству, а в результате одна деталь оказывается яркой и убедительной, дает живое ощущение момента, а другая лишь перегружает повествование.
То, что в общем случае приводит к досадному, но не столь уж принципиально существенному диссонансу, в характеристике образа может дать негативный эффект. В первом романе Фицджеральда наиболее пострадал в этом отношении образ Розалинды. Дж. Миллер-младший не без основания утверждает, что в обрисовке Розалинды Фицджеральда постигла неудача, так как он «приписывает ей взаимно исключающие качества» [20]. Действительно, Фицджеральд настойчиво стремится полностью оправдать главную героиню романа, и его попытка представить Розалинду ни в чем не повинной жертвой вступает в явное противоречие с ее вполне недвусмысленными действиями. Здесь, конечно, сказывается, как точно заметил М. О. Мендельсон, неясность позиции автора, проявляющаяся «на протяжении большей части романа» [21]. Аналогичная двойственность обнаруживается, хоть и не столь отчетливо, при обрисовке и некоторых других женских образов, в частности образа Беатрисы. Но в последнем случае многое возмещается иронией, ибо мать Эмори представлена почти исключительно в ироническом освещении. Она характеризуется в основном в начале романа, где, повторим, достаточно заметна дистанция между автором и его героем. Иначе обстоит дело с характеристикой Розалинды. Здесь уже расстояние между автором и героем почти отсутствует, и слабость позиции автора ничем не компенсируется. Более того, искусство мстит за насилие над собой, и так «получается», что именно важнейшие эпизоды, посвященные Розалинде, оказываются окрашенными не трагической тональностью, как, очевидно, хотелось автору, а тоном мало убедительной мелодрамы. В образах Беатрисы и Розалинды нетрудно заметить черты, в определенной мере роднящие их с образом Дэзи Бьюкенен, но не менее заметна и принципиальная разница в их художественном представлении.
Наиболее интересен, конечно, образ центрального персонажа романа. Мы знакомимся с Эмори Блейном, когда ему только пять лет. Разумеется, эпизоды детства и ранней юности героя отличаются по своему значению от центральных событий его взрослой жизни. Правда, для школьника спортивный успех или отношение соучеников не менее реальны, чем для взрослого подлинно драматические события, и Фицджеральду отлично удается отображение внутреннего мира ребенка и подростка, его радостей и огорчений. Но нельзя не заметить, что образ Эмори от начала до конца дается в определенной (правда, окрашенной «двойным видением») социальной перспективе, то есть характеризуется и как бы изнутри, и объективно, а во второй книге романа эти тенденции сливаются воедино. В результате такого представления даже при определенной нечеткости авторской позиции получается действительно социально обусловленный образ, он дается в развитии и отражает, как упоминалось, существенные приметы и настроения времени. Поэтому прав Р. Скляр, утверждающий, что уже в первой книге писателя «личность и общество вместе держатся в фокусе даже в те моменты, когда роман наиболее глубоко погружается в умы и сердца молодежи» [22].
В годы раннего детства Эмори воспитанием его занималась исключительно Беатриса, а основным фактором, обусловившим крайне экзотический характер этого воспитания, было огромное состояние семьи Блейн. Автор убедительно показывает, как под влиянием матери ребенок становится эгоистом. Заметим, кстати, что в этот период жизни героя писатель к нему тоже относится зачастую иронически, но в самом звучании этой иронии есть показательное отличие от насмешливого и критического топа, окрашивающего иронию в адрес Беатрисы.
Критицизм Фицджеральда, как бы ни проявлялось "двойное видение" писателя, обращен не только на отдельных действующих лиц, хотя и это весьма существенно, потому что образ Беатрисы, например, ярко окрашен социально, но и на некоторые учреждения и системы, и критицизм этот бывает очень резок. Так, автор крайне уничижительно отзывается о системе школьного образования и воспитания, позволяет себе существенную критику социальной структуры университета, хотя чуть не в каждом слове соответствующих эпизодов сквозит его любовь к Принстону. При всем том наибольший интерес для уяснения идейной направленности романа представляют эпизоды второй книги.
Действительно, студенческая жизнь героя социально насыщена, но Принстон, подобно другим крупным университетам, оказывается как бы не связанным непосредственно с большим миром, образует собственный замкнутый мирок. Реальная жизнь остается где-то за пределами университетской территории, которая сообщается с внешним миром, пожалуй, не больше, чем уютный залив с огромным океаном. Эта частичная, но очень показательная замкнутость исчезает лишь тогда, когда история властно стучится в университетские двери, возвещая о конце безмятежной довоенной жизни.
Эпизоды второй книги оказываются решающими в становлении личности героя, ибо взрослая жизнь в своих существенных проявлениях предъявила к нему новые требования, заставила пересмотреть многие взгляды и сделать необходимые выводы, другими словами, заставила его мыслить по-взрослому, на уровне времени, и обогатила его внутренний мир. Процесс превращения в личность, как это обычно бывает, хоть и был отнюдь не безболезненным, пошел Эмори на пользу. Разумеется, взрослая жизнь героя началась в окопах, но о военном ее аспекте, как мы уже знаем, можно судить лишь по настроению, окрашивающему вторую книгу романа. Здесь большой интерес представляет разработка той тематики, которая вообще была характерной для писателей «потерянного поколения» и в Европе, и в США.
В творчестве наиболее выдающихся из них созданы типичные «модели» отношений с миром тех людей, привычные представления и мораль которых были вдребезги разбиты войной 1914—1918 гг. На страницах множества романов и повестей появляется фигура индивидуалиста, отрицающего враждебный ему мир, и, естественно, нуждающегося в каких-то новых точках опоры. Еще до того, как определяется необходимость и неизбежность поисков новой морали в рамках общества, то есть до того, как горький индивидуализм обнаруживает — в том числе и для самого индивидуалиста — свою несостоятельность, выясняется, что основные точки опоры в наиболее типичных случаях — это, во-первых, любовь, во-вторых, фронтовая дружба и, наконец, сила собственного характера. Действительные, а не чисто умозрительные поиски новых ценностей начинаются, как правило, лишь когда позиция «вдвоем против мира» или «в одиночку против мира» проходит практическую проверку.
В романе Р. Олдингтона «Все люди — враги» англичанин Тони Кларендон собирается жить со своей возлюбленной Катой во Франции, переезжая с места на место (Париж только на две недели!) и держась подальше и от своей Англии, и от Австрии, родины Каты. Так, им кажется, можно укрыться от враждебного и жестокого мира, который только и хочет уничтожить их счастье. Искусственность такого выхода фатально отражается на художественном качестве последней части интересного романа. Реализм Олдингтона уступает место приторной и неубедительной сентиментальности. Ни о каких поисках новых ценностей в романе и речи нет. Тони и Ката с большим трудом нашли друг друга, у Тони — и это весьма показательно — есть независимый доход, и больше героям Олдингтона в этот период (им же кажется, что навсегда) ничего не нужно.
«Модель» фронтовой дружбы нашла в конечном счете наиболее полное, на наш взгляд, выражение в творчестве Э. М. Ремарка. Очень характерен в этом отношении его роман «Три товарища». Когда в конце этого трагического произведения фронтовые друзья Робби и Отто остаются вдвоем, обнищав, похоронив третьего друга, похоронив возлюбленную Робби, только сознание того, что каждый из них необходим другому, удерживает героев романа от самоубийства. Так найденная в окопах дружба спасает Робби и Отто, но они обречены на одиночество вдвоем, они в отчаянии. Тема новых поисков в заключительных эпизодах книги не поднимается.
Хемингуэй («Прощай, оружие!» и «Фиеста») не отрицает ни любви, ни дружбы, даже воспевает эти чувства, но имеет мужество довести линию порожденного войной трагического индивидуализма до логического завершения, показывая героя, который только в силе собственного характера обретает столь необходимую ему опору, сохраняя при этом высокую человечность, но так и остается трагической фигурой. В «Фиесте» по-своему намечена и оптимистическая линия поисков. Творчество остальных представителей европейской и американской литературы «потерянного поколения» (разумеется, в рамках критического реализма), в сущности, не может предложить ни одной «модели», которая имела бы такую же жизненную убедительность и была столь же оправдана психологически.
В анализируемом романе Фицджеральда впервые представлены основные «модели» литературы «потерянного поколения», получившие весьма своеобразную трактовку. Возвратившись из армии, Эмори Блейн поспешил в Нью-Йорк и поселился вместе с двумя университетскими друзьями, которые тоже побывали на фронте. Теперь, когда окопы остались в прошлом, молодым людям, кажется, больше ничего не нужно, но уже очень скоро «их маленькое хозяйство развалилось, как карточный домик» (I, 226). Первым съехал с общей квартиры Алек, состоятельные родители которого настояли на том, чтобы он жил дома. Фицджеральду даже не приходится особенно акцентировать момент материального благополучия Алека. Мотив денег неслучайно возникает и повторяется в романс. Важность этого обстоятельства подтверждается и дальнейшим развитием действия. Вскоре после Алека вынужден уехать и Том. Формальной причиной его отъезда является болезнь матери, но к этому моменту уже ясно, что жизнь развела наших героев в разные стороны, и каждому из них приходится самостоятельно отыскивать какие-то новые ориентиры. Таким образом, особенностью «модели» фронтовой дружбы у Фицджеральда оказывается то, что тема дружбы связывается с темой денег. При этом писатель демонстрирует социальную несостоятельность маленькой «колонии» друзей.
Еще более важную, даже решающую роль играют деньги в разрешении главной любовной коллизии романа. Отсутствие денег мешает Эмори узнать счастье жизни вдвоем с любимой. Так и любовь обманывает ожидания нашего героя. А вслед за этим «рушатся несколько опор». Так озаглавлен эпизод, в котором сообщается о помолвке Розалинды с молодым миллионером, окончательном разорении Эмори и смерти монсеньера Дарси. События эти неравноценны в глазах героя романа, и необходимо отметить, что любовная драма завершилась окончательно до того, как Розалинда согласилась на официальное объявление помолвки с другим. Монсеньер умирает именно в этот момент, потому что он уже ничего не может дать герою, вплотную подошедшему к полной духовной самостоятельности. Разорение же (вновь тема денег!) лишает Эмори последнего убежища и вынуждает к активным действиям. В сущности, рушатся все опоры, и только так окончательно создаются условия для превращения эгоиста в личность. Эмори не погибает в одиночестве. Наоборот, только теперь он начинает напряженно размышлять, исходя из новых (для него) отправных точек, приступает к поискам собственного пути, причем заключение романа позволяет, нам кажется, утверждать, что этот путь не будет трагической тропой индивидуалиста.
Нетрудно заметить, что в «моделях» Фицджеральда существует и сходство с типичными «моделями» писателей «потерянного поколения», и серьезные отличия от них. Отличие состоит прежде всего в том, что тема любви и дружбы выступает не как таковая, а в непременной связи с темой денег. Наличие социального мотива такого плана в значительной мере обусловливает и фактическое отсутствие в романе трагической позиции одиночки перед лицом враждебного мира. Какие бы чувства ни испытывал Эмори, мысли его самим ходом событий направляются по пути анализа общественных отношений. Только данных для такого анализа у героя романа мало, его личные эмоции пока что превалируют, и обращение его к социалистическим идеям оказывается хотя и закономерным, особенно если учесть время действия, но крайне наивным, незрелым и очень «личностным». Высказывая радикальные взгляды, Эмори отдает себе отчет в непродуманности того, о чем так пространно говорит. Тем не менее его мысли оказываются достаточно мотивированными всем ходом событий. Слабость же его идейной позиции подчеркивается наивностью и неуклюжестью приема, примененного специально, чтобы дать герою возможность высказаться. Положения не спасает и введенный автором «для большего реализма» образ приживалы, сопровождающего богатого патрона. Искусственность «дискурсивного» высказывания Эмори очень заметна, и возникает явный диссонанс между значением мыслей героя и формой их введения в повествование.
Лишившись буквально всего, что привязывало его к Нью-Йорку и тому суррогату устойчивого существования, которым он прежде обходился, Эмори думает: «Жизнь — чертова неразбериха... футбол, в котором все игроки «вне игры», а судьи нет, и каждый кричит, что судья был бы на его стороне...» (I, 267). Чуть ниже писатель, только что назвавший прогресс лабиринтом, констатирует уже от собственного имени: «С чувством вины, одиночества, утраты иллюзий подошел он к входу в лабиринт». Очень скоро, однако, Эмори отправляется пешком в Принстон, и во время этого путешествия, которое, конечно, имеет и символический характер, будучи путешествием к самому себе и к новой жизненной позиции, герой романа охвачен совсем другим настроением. Сама краткость периода «потерянности» невозможная у героев Ремарка, Хемингуэя или других писателей того же направления, принципиально характерна, как мы старались показать, для состояния героя у Фицджеральда.
Роман заканчивается следующим пассажем: «...он не мог бы сказать, почему бороться стоит, почему он твердо решил без остатка тратить себя и наследие тех выдающихся людей, которых встретил на своем пути. Он простер руки к сияющему хрустальному небу. "Я знаю себя,— воскликнул он,— но и только!"» (I, 284).
Себя знали всe «потерянные», но лишь значительно позже многие из них сумели наметить столь оптимистическую линию поисков.
Остается сказать несколько слов о языке романа.
Известно, что Гертруда Стайн отмечала естественность предложений Фицджеральда. О присущем писателю тонком чувстве интонации английского предложения пишет в связи с романом и Артур Майзенер [23]. В самом деле, фраза Фицджеральда, как правило, изящна и необыкновенно музыкальна, предложения ритмически безупречны, а соразмерность их частей подчас кажется просто удивительной. Рассмотрим характерный пример: «Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам» (I, 78).
Отметим прежде всего логическую связь и последовательность приведенных предложений. Первое из них дает краткое сообщение о процессе, причем чувствуется несколько приподнятый тон, вполне соответствующий и общему настроению смотрящего, и тому чувству, которое вызывает в его душе открывающаяся перед ним картина. Второе предложение, естественно, значительно длиннее, так как раскрывает конкретное содержание действия, только названного в первом. Заметно, что второе предложение легко можно было бы разбить на два и даже на три, но автор сознательно предпочитает в данном случае запятые точкам, так как единство предложения отражает единство процесса, единство происходящего движения, а кроме того, незаметно дает единую точку наблюдения. Ясно, что наблюдатель неподвижен, и чувствуется, что эта неподвижность обусловлена торжественностью предстающей перед ним картины. Хотя повествование ведется от третьего лица, переход к действительному наблюдателю, которым, конечно, является герой романа, уже намечен, и читатель как бы начинает видеть вместе с Эмори. Этому способствует также утверждение несколько приподнятого тона, создаваемое интонационно и лексически. Третье предложение сочетает с чисто зрительным эффектом скрытое содержание, свидетельствующее, что наблюдатель видел ту же сцену в другое время. И вновь торжественность момента и настроения наблюдателя подтверждаются, на этот раз собственно характером сравнений («муравьи» — «призраки»), а сами сравнения проходят параллельно, способствуя, помимо всего прочего, созданию необходимого ритмического рисунка. Прибавим, что перевод, хотя и выполнен превосходно, все же не может полностью передать обаяние оригинала [24]. Так, в оригинальном тексте нет упоминания о земле (второе предложение отрывка), внимание сосредоточено на шпилях и башнях, и автору, таким образом, удается избежать ненужного снижения, а в третьем предложении перевод убил ритм и искалечил смысл слов «in and out of the foreground». Но лексическая и ритмико-интонационная насыщенность оригинала такова, что неизбежные при переводе потери лишь отчасти сказываются на общем впечатлении. Добавим, что отмеченная в приведенном отрывке приподнятость и эмоциональность лексики вообще обычна для писателя, обладавшего поэтическим, лирическим темпераментом. Такая лексика как нельзя лучше подходит романтически окрашенному тексту, а близость Фицджеральда к романтикам может, вероятно, считаться доказанной.
Как видно, Фицджеральду уже в первом романе удается средствами языка создавать сложный художественный эффект. Текст романа содержит множество пассажей, не уступающих приведенному, и, вероятно, читателю уже ясно, что имела в виду Г. Стайн, выделяя Фицджеральда среди всех писателей младшего (на ее время) поколения. Язык его в самом деле великолепен. Фицджеральд очень рано умеет точно использовать глагольные формы для передачи действия, демонстрирует понимание возможностей диалога, сочетания диалога с авторским повествованием и так далее. В совокупности этого, конечно, достаточно, чтобы с уверенностью опознавать почерк писателя, но в первом романе Фицджеральд еще не может, да и не пытается, представить слово, понятие, образ диалектически. Кроме того, ему подчас изменяют еще вкус и чувство меры. Выше уже упоминалась чрезмерная сентиментальность и неоправданная мелодраматичность в эпизодах, повествующих о любовной истории Эмори и Розалинды. Эти погрешности настолько заметны, что едва ли нужно приводить соответствующие цитаты. Скажем лишь, что аналогичные недостатки встречаются и в некоторых других эпизодах романа. Таким образом, и в самой ткани повествования обнаруживаются черты, свидетельствующие о двойственном характере романа, о борьбе в нем противоположных тенденций.
Итак, роман, открывший в американской литературе «потерянное поколение» первой мировой войны, не смог показать читателю истинное лицо войны, зато смог выразить важное общественное настроение и очень рано обратился к проблематике, серьезно заинтересовавшей других представителей этого направления лишь много позже. Антивоенная тема в обычном для «потерянных» преломлении не является у Фицджеральда единственной, и писатель, как бы ни привлекал его блеск, обеспечиваемый богатством, выступает с острой, хотя подчас и весьма наивной, социальной критикой, склоняясь к радикальным взглядам. Поиски самого себя оказываются для героя романа неразрывно связанными с анализом и оценкой общественных порядков, той действительности, которая его больше не удовлетворяет.
Нельзя, вероятно, сказать, что в конце романа Эмори Блейн, разочаровавшись в индивидуализме, возвращается в общество, так как, в сущности, никогда не покидал его, не разрывал полностью соответствующие связи. Кризисным в этом отношении мог быть лишь очень короткий отрезок времени. Тем же, очевидно, обусловлено пронизывающее роман чувство неразрывности времени, которое подчеркивается скрупулезной констатацией мелких и крупных перемен на всем протяжении действия и ощущается несмотря на дискретный характер представления времени-действия.
Сложное сочетание тем в романе требовало строгой организации, что соответствовало бы и творческим склонностям писателя, его темпераменту, но во время написания книги Фицджеральд не был еще самостоятельным и зрелым романистом, следовал не лучшим образцам и некритически воспринимал посторонние влияния. Это обусловило многие существенные недостатки, а в конечном счете — и весь двойственный характер его первого крупного произведения. Тем не менее в книге много великолепных страниц, есть и прекрасно написанные эпизоды. В романе громко звучит нота социального неблагополучия, отражены бунтарские, нонконформистские настроения, активный протест против общественной системы, при которой «кто богаче, тому достается самая прекрасная девушка, при которой художник без постоянного дохода вынужден продавать свой талант пуговичному фабриканту» (I, 279).
Едва ли стоит преувеличивать значение избранных автором несколько, на наш взгляд, претенциозных эпиграфов, но ошибкой было бы недооценивать неоднократно подмеченное и зарубежной критикой настроение опасности и постоянно подстерегающей героев писателя «по эту сторону рая» социально обусловленной катастрофы. В контексте всего «романного» творчества Фицджеральда его первое большое произведение явилось серьезной и талантливой заявкой. В нем уже были намечены и некоторые из основных тем, и общая тенденция творчества писателя, а также существенные особенности пробивающейся сквозь разнообразные влияния его собственной авторской манеры.
II
Третьего апреля 1920 г., через неделю после выхода романа «По эту сторону рая», ставший знаменитым автор женился на своей невесте Зельде Сэйр. О жизни супругов Фицджеральд писали очень много, и едва ли нужно останавливаться здесь подробнее на трагической истории их семьи. Заметим лишь, что неудача этого брака определилась значительно позже, а в начале совместной жизни писатель и его жена были очень счастливы, и только неумеренная тяга к разного рода развлечениям, мешавшим, конечно, серьезной творческой работе, предвещала мрачное будущее. Лето 1921 г. Фицджеральды проводят в Европе, и писатель продолжает совмещать рассеянную жизнь с литературными трудами. Начало 20-х годов было для него хорошим временем: будущее виделось лучезарным, в голове роились творческие замыслы, силы казались неисчерпаемыми, удавалось не только работать самому, но и пристально следить за литературным процессом на родине и в Европе.
Именно в этот период в переписке Фицджеральда с его замечательным редактором и верным другом Мак-суэллом Перкинсом закладывается традиция обмена мнениями о выдающихся авторах и произведениях современности [25]. Горизонты писателя расширяются. Он еще не изменяет старым кумирам, но его внимание все больше привлекают новые имена. Уже третьего февраля 1920 г. в письме Перкинсу Фицджеральд выражает негодование по поводу травли Драйзера, сообщает, что подпал под влияние Норриса, отмечает значение только что «открытого» им Менкена и делает следующее симптоматичное признание: «В сущности, я не так уверен во всем на свете, как прошлым летом — все-таки этот Конрад, по-видимому, очень хорош» [26].
Увлечение писателя Драйзером и Норрисом естественно дополнялось интересом к идеям критика и публициста Г. Л. Менкена, прославившегося в те годы смелыми нападками на буржуазное мещанство и постоянно отстаивавшего реалистическое творчество. Фицджеральд часто печатался в журнале «Смарт Сет» Менкена и Джорджа Джина Нэтэна, еще одного радикального критика; с издателями журнала у него сложились отнюдь не только официальные отношения. Критика собственных творческих принципов, признание достоинств Конрада, мастера формы, особенно интересовавшегося повествовательной перспективой, свидетельствуют о том, что писателя все больше занимает вопрос «как это делается?», в частности проблема организации повествования.
Писатель приступил к работе над новым большим произведением, когда не успел еще утихнуть шум, вызванный появлением книги «По эту сторону рая». Седьмого июля 1920 г. Фицджеральд пишет Перкинсу, что собирается закончить роман к середине сентября, а двенадцатого августа того же года в письме своему издателю Скрибнеру дает предварительное название произведения («Полет ракеты»), указывает имя центрального персонажа и кратко излагает сюжет, но выражает надежду закончить книгу лишь к первому ноября [27]. Однако работа затянулась, и второй роман, оказавшийся необычно большим для Фицджеральда, был опубликован в окончательном виде под названием «Прекрасные и обреченные» только третьего марта 1922 г.
Книга была неплохо встречена публикой, раскупившей в течение первого же года более сорока тысяч экземпляров (довольно много для того времени), и критикой, в отзывах которой особенно выделяются два положения, закрепленные и во многих более поздних исследованиях. Во-первых, отмечается рост мастерства Фицджеральда-романиста [28]. Во-вторых, показательно расширяется круг авторов, отголоски влияния которых обнаруживаются в анализируемом произведении. Так, М. Гайсмар находит в книге — впервые в творчестве писателя — технику, присущую Генри Джеймсу [29]. Г. Д. Пайпер считает основным недостатком романа то, что Фицджеральд в нем якобы пытался рассказать две разные истории, причем одна вдохновлялась тем типом реализма, который был характерен для Драйзера и Норриса, а вторая излагалась в манере Шоу или Уайльда [30]. Р. Скляр пишет о влиянии Менкена [31], а также Норриса, Драйзера и раннего Конрада [32]. Г. Сельдес же находит в романе лишь влияние Конрада и Эдит Уортон [33].
На первый взгляд, отмеченные положения противоречат одно другому, так как трудно представить, чтобы рост писательского мастерства сопровождался отражением все большего числа влияний. На самом деле противоречия здесь нет. Прежде всего, по нашему мнению, не следует преувеличивать значение тех или иных влияний в романе «Прекрасные и обреченные». Число их действительно увеличилось, они стали более разнообразными, по проявляются отнюдь не столь заметно, как в первом романе писателя. Зато значительно отчетливее, чем прежде, выражена тенденция к самостоятельному творчеству. Она проявляется по-разному, но все же никто не считает, причем с полным основанием, второй роман Фицджеральда вполне зрелым произведением. Дело здесь, вероятно, не столько в неоспоримом наличии разного рода влияний, сколько в том, что упомянутая тенденция к самостоятельности в анализируемом произведении еще не находит полного развития, в результате чего читатель получает творение промежуточное, во многом противоречивое и, пожалуй, значительно труднее поддающееся оценке, чем книга «По эту сторону рая».
Может показаться парадоксальным, что роман, отмеченный несомненным ростом писательского мастерства, оказался наименее популярным из всех произведений того же жанра, принадлежащих перу Фицджеральда. (Заметим, кстати, что «Прекрасные и обреченные» — единственный роман Фицджеральда, до сих пор не переведенный на русский язык). Роману посвящено сравнительно наименьшее количество отдельных критических работ и отводится меньше места в более общих исследованиях.
Некоторые критики весьма убедительно объясняют это положение. Кросс, например, пишет: «Основная слабость «Прекрасных и обреченных» обусловлена тем, что пронизывающая книгу атмосфера распада и смерти далеко не полностью оправдывается ситуацией; катастрофа недостаточно мотивируется, и роман оказывается художественно несостоятельным» [34]. О слабой мотивации и неубедительной обрисовке характера пишет и Ч. Шейн [35]. Дж. Миллер-младший находит, что смешанные цели и неясные симпатии автора исключили возможность четкого развития темы произведения [36]. Примерно той же точки зрения придерживается А. Майзенер [37]. С. Пероза считает, что стремление писателя наделить героя романа своего рода моральным величием противоречит объективному развитию действия [38]. О наличии существенной и далеко не всегда оправданной двойственности в авторской трактовке образа героя пишут и советские критики [39]. Едва ли не общим для большинства высказывавшихся об этом романе является мнение, что он уступает предшествующему, так как значительно меньше, слабее окрашен непосредственным чувством.
Может быть, с некоторыми оговорками, но приведенные мнения исследователей приходится, на наш взгляд, считать справедливыми. Относительно непосредственного чувства заметим сразу же, что «Прекрасные и обреченные», как указывала критика, — значительно менее автобиографичное произведение, чем «По эту сторону рая». Во втором романе автор более четко отделен от героя, чем в первом, и такое отделение сказывается на книге и положительно, и отрицательно. С одной стороны, роман представляется более зрелым, а с другой — обнаруживается, что писатель еще не владеет в должной мере искусством организации повествования и допускает разнообразные художественные просчеты.
Объективно оценить книгу «Прекрасные и обреченные», а также место, занимаемое ею в творчестве Фицджеральда-романиста, можно лишь на основе сопоставительного анализа.
Сюжет романа весьма прост и в этом отношении вполне сопоставим с сюжетом книги «По эту сторону рая». Центральный персонаж «Прекрасных и обреченных» Энтони Пэтч, внук мультимиллионера, получивший превосходное гуманитарное образование в Америке и несколько лет живший в Европе, возвращается на родину и, в ожидании колоссального наследства, ничего не делает. Небольшое личное состояние позволяет ему «красиво» сибаритствовать. Иногда у него появляются смут-ные планы деятельности того или иного рода, но до их воплощения никогда не доходит. Энтони женится на Глории Гилберт, кузине одного из своих приятелей, красавице, которая с удовольствием разделяет образ жизни супруга. Теперь уже молодые вдвоем строят планы на будущее, впрочем, очень туманные, а тем временем развлечения, целиком поглощающие их, принимают все более бурный характер. Адам Пэтч, дед героя, ставший на старости лет поборником морали, оказывается случайным свидетелем очередной пьяной вечеринки внука и лишает его наследства, завещав основной капитал на «моральные реформы» и назначив своего секретаря распорядителем огромного состояния. Внук опротестовывает завещание деда. Как раз в это время США вступают в первую мировую войну, и Энтони попадает в армейский учебный лагерь. Война заканчивается раньше, чем дивизия, в которой служит герой романа, успевает отплыть в Европу. Судебное дело тянется годами, демобилизованный Энтони и Глория все больше пьют, их доходы сокращаются, маленькое состояние тает, они опускаются, теряя некогда присущую им красоту, и в тот момент, когда у Энтони начинается серьезное нервное расстройство, подозрительно смахивающее на острый приступ белой горячки, приходит известие о том, что суд вынес, наконец, решение в пользу наших героев.
Нетрудно заметить сходство рисунков времени в первом и втором романах Фицджеральда. В обеих книгах развитие действия дается без нарушения хронологического порядка событий. Писатель по-прежнему акцентирует моменты, имеющие особенное значение для характеристики главного героя, но в композиции выражена тенденция к большей целостности, к более строгой организации повествования. Дискретность, типичная для первого романа, во втором исчезает почти совершенно. Правда, Фицджеральд, как прежде, снабжает особыми заголовками отдельные эпизоды внутри каждой главы, но в романе «По эту сторону рая», как уже отмечалось, лишь некоторые из таких эпизодов составляли определенное единство, а во втором романе даже специально выделенные элементы повествования не дробят действие, и подзаголовки внутри глав выполняют чисто служебную функцию. Показательны и особенности общей композиции произведения.
«Прекрасные и обреченные» — роман в трех книгах. Каждая книга состоит из трех глав. Деление на книги и главы логично и полностью соответствует существенным этапам развития сюжета. Важнейшие для выяснения идейного содержания всего произведения вопросы подробно обсуждаются во второй главе второй книги, занимая и композиционно центральное место, что подчеркивает придаваемое им значение. Нет на этот раз «Интерлюдии», которая, как было видно, не могла нести «порученную» ей идейную нагрузку. Военный опыт Энтони освещен достаточно подробно, развитие характера героя в армейских условиях не декларируется, а раскрывается, и автору тем самым удается ликвидировать лакуну, столь отрицательно сказавшуюся на художественных достоинствах первого романа. Основная сюжетная линия доминирует в каждой главе. Это позволяет сохранить единство и непрерывность развития действия почти на всем протяжении повествования, хотя и в этом произведении осуществляется художественное осмысление по меньшей мере двух основных тем: моральной деградации Энтони, связанной с темой богатства, и темы «потерянного поколения». Заметим, кстати, что уже поэтому нельзя согласиться с Р. Скляром, утверждающим, будто Энтони и Глория представлены как бы вне времени и пространства, а роман в целом мог бы с тем же успехом повествовать о каменном веке, а не о «веке джаза» [40].
Значительно более четко, чем прежде, Фицджеральду удается определить собственно сюжетные линии, связанные с образами нескольких важных персонажей. У Эмори Блейна было двое близких друзей, вместе с которыми он поселился после демобилизации. Если линия одного из них (Алека, брата возлюбленной Эмори Розалинды) проводится более или менее последовательно, то линия другого — Тома — едва намечается, и в развитии ее случайность играет слишком большую роль. У Энтони Пэтча есть два приятеля (весьма показательно, что их едва ли можно назвать друзьями), и связанные с их образами сюжетные линии мотивируются более тщательно, а социальные моменты, лежащие в основе развития этих образов, обозначаются много отчетливее. Несколько иначе прочерчена и основная линия сюжета. Эмори Блейн На протяжении многих страниц предстает перед читателем как «Эмори плюс Беатриса». Разумеется, образ Беатрисы, как отмечала критика, понадобился Фицджеральду, чтобы в очень автобиографичном произведении осуществить «отделение» автора от героя, но появление Беатрисы на страницах романа обусловлено отнюдь не только «техническими» соображениями. Ее влияние на Эмори существенно для его характеристики, но двойственное отношение автора к матери героя в какой-то мере сказывается, особенно в начале романа, на том, как обрисован сам Эмори. Иначе обстоит дело с Энтони. От начала до конца повествования он занимает передний план, родители его подчеркнуто незначительны и упоминаются лишь мимоходом, к началу собственно действия их уже нет в живых, а с дедом героя внутренне ничто не связывает. Сюжетная линия Энтони дается как бы в чистом виде, и ее социальное наполнение объективируется, ничего не теряя в убедительности.
Все же в разработке сюжета «Прекрасных и обреченных» обнаруживается показательная непоследовательность, которая тем более заметна, что структура книги, как упоминалось, подчеркнуто упорядочена, даже почти совершенно симметрична. С момента женитьбы героя сюжетная линия Энтони усложняется. Хотя Глория как личность во многом отличается от мужа и автор то и дело подчеркивает эти отличия, с началом совместной жизни героев их отдельные сюжетные линии сливаются воедино, пусть лишь постольку, поскольку в действии отражаются главные темы произведения. Так появляется линия Энтони — Глории, которую можно представить как неодноцветную, но единую (весьма показательно в этом отношении, что любое серьезное самостоятельное стремление одного из супругов непременно наталкивается на противодействие другого, а в результате они неразлучны, и продолжается развитие общей сюжетной линии). Это новое единство предъявляет к роману некоторые формальные требования, и автору удается удовлетворять их лишь до определенного момента. Стоит Энтони и Глории на время расстаться, как нужно по сюжету, и простой и односторонне направленный рисунок времени неоправданно заменяется сложным, действие раздваивается, что отрицательно сказывается на художественных достоинствах книги. Линия Энтони, отделившись от линии Глории, развивается самостоятельно. Когда же она вновь должна слиться с линией Глории, оказывается, что героиня осталась далеко позади во времени, и автор, бросив героя на произвол судьбы, вынужден повернуть вспять, чтобы заняться линией героини и довести ее до того пункта во времени, где в ожидании бездействует герой. Интересно, что с момента раздвоения линии Энтони — Глории Фицджеральд как бы точечно намечает места соприкосновения вновь возникших двух линий, но желаемого единства не достигает и даже создает у читателя ложное впечатление — свидетельство того, что на этом этапе с проблемой повествовательной перспективы автор полностью совладать еще не может. Посмотрим, как это происходит в произведении.
Первая глава третьей книги романа начинается так: «Следуя отчаянной команде из какого-то невидимого источника, Энтони ощупью пробрался внутрь (вагона, увозящего солдат в учебный лагерь. — Ю. Л.). Он думал, что впервые расстается с Глорией больше, чем на одну ночь» [41]. Далее на тридцати шести страницах рассказывается о военной жизни Энтони. Глава заканчивается его возвращением в Нью-Йорк и встречей с женой. В первых же словах следующей главы автор подчеркивает, что герои встретились после годичной разлуки. Вот тут-то и начинается новый рассказ о том, как же прошел этот год для Глории, и начинается он с того самого момента, когда героиня, проводив уезжавшего в лагерь мужа, выходит из здания вокзала. Показать параллельное развитие раздвоившейся сюжетной линии писатель не смог. В то же время он не мог оставить героя надолго, а в результате конспективное представление жизни Глории в течение того же года занимает не тридцать шесть, а всего десять страниц текста. Эта сравнительная краткость не спасает дела. Различие в том, как представлена жизнь Энтони и жизнь Глории, очень заметно. Оно создает художественный диссонанс, отнюдь не сразу исчезающий. Чувства супругов при встрече даже несколько удивляют, ибо их переписка в течение «армейского» года . (письма и обеспечивали упоминавшиеся точки соприкосновения обеих линий) заставляет сомневаться в логичности данной автором развязки эпизода. Допущенный писателем художественный просчет затрагивает крупные единицы структуры и усугубляется важностью их содержания.
Как известно, основные темы романа конкретно воплощаются в образах героев и развитии сюжета. Характеры персонажей могут быть как угодно сложны, представлены объемно, подробно рассмотрены со всех сторон, их изменения прослежены в зависимости от движения действия, и всего этого может быть недостаточно ни для достижения последовательности и глубины в разработке социальной тематики, ни для создания цельного художественного эффекта. Другими словами, чтобы достичь желаемого идейно-художественного единства, автору необходимо четко определить свое отношение к описываемому, твердо обозначить моральные позиции, необходимо выработать соответствующую шкалу ценностей. С первых же слов книги «Прекрасные и обреченные» выясняется, что отношение Фицджеральда к Энтони Пэтчу и другим действующим лицам, а следовательно, и к основной проблематике, отмечено некоторой небезразличной для художественного качества романа двойственностью. В то же время тональность произведения в целом выявляет тенденцию, хотя и не до конца реализованную, к преодолению этой двойственности.
Вспомним, что писатель серьезно рассматривал название «Полет ракеты». В нем, очевидно, заложена та же идея, которая более конкретно выражена в окончательном варианте названия. В самом деле, ракета красива лишь в кратковременном полете и обречена рассыпаться на обгоревшие частицы, ничем не напоминающие о былой красоте. Еще откровеннее обреченность красоты постулируется в окончательном названии. Возникает вопрос о социальном качестве подчеркиваемой писателем красоты, причинах ее обреченности у Фицджеральда, что возвращает нас к образам героев.
Собственно действие начинается в 1913 г., когда Энтони было двадцать пять лет. В это время он «извлекал такое же чувство социальной надежности из того, что был внуком Адама Дж. Пэтча, какое ему дала бы возможность протянуть свою родословную за море, до крестоносцев» (р. 9). Социальное положение героя (причем не только в собственных глазах) определяется в первую очередь тем, что он — единственный наследник своего богатого деда. Но буквально тут же выясняется, что с дедом Энтони ничто, кроме родства, не связывает. Мало того, отношение автора к старому Пэтчу, в отличие от его отношения к Энтони, выражено совершенно недвусмысленно. Нигде в книге ирония Фицджеральда не достигает такой остроты, как на немногих страницах, посвященных этому эпизодическому, но важному персонажу. Если история его обогащения излагается в насмешливо-ироническом тоне («Он вернулся с войны майором, атаковал Уоллстрит и посреди большой суматохи, возбуждения, аплодисментов и недоброжелательства прибрал к рукам миллионов семьдесят пять долларов», р. 10), то его деятельность в области «моральных реформ» получает значительно более ядовитую оценку. Здесь мы находим и ссылку на «острый приступ склероза», и боксерские термины при характеристике ударов, нанесенных старым стяжателем «спиртному, литературе, пороку, искусству, патентованным медикаментам и воскресным театральным представлениям», и эпитеты типа «взбесившийся маньяк», «отъявленный надоеда» и «невыносимый зануда». Роман написан от третьего лица, но авторская характеристика Адама едва ли не полностью соответствует отношению Энтони к деду, воплощающему, при всех капиталах, образ жизни, совершенно чуждый внуку и лишенный какой бы то ни было красоты.
Критика неоднократно отмечала, что старый Пэтч изображается чересчур гротескно, в результате чего его характеристика оказывается слишком поверхностной и выпадает поэтому из общего тона произведения, но зато объект протеста молодого поколения выявляется вполне точно. Так, Дж. Миллер-младший пишет: «...в «Прекрасных и обреченных» есть (а в «По эту сторону рая» не было) характер в главной линии действия, воплощающий все те обычаи, против которых идет бунт. Адам Пэтч — олицетворенное викторианство» [42]. Действительно, откровенное осмеяние старого Пэтча не имеет аналогий в романе, и этому характеру явно не хватает психологической глубины [43]. Все же, разница между тем, как характеризуется дед героя, и тем, как он показан, намечена довольно тонко. Вероятно, писатель чувствовал, что фигура старика, особенно в начале повествования, выглядит излишне облегченной психологически, и в нескольких из тех микроэпизодов, где Адам Пэтч непосредственно участвует в действии, появляются черточки, в какой-то мере переводящие этот образ из чисто карикатурного плана в более жизненный. При кратких встречах с внуком дед проявляет то ум, то цинизм, то даже некоторую проницательность. Тем не менее, оценка его и отношение к нему молодых героев (и автора) остаются неизменными.
Конфликт внука и деда имеет принципиальный характер. Это не просто конфликт поколений, корни которого легко отыскиваются в разнице возрастов и опыта. Это антагонизм, имеющий серьезную историческую подоплеку. Возможно, Фицджеральд допускает некоторый анахронизм, когда позволяет своему герою уже в 1913г. смотреть на деда как на карикатуру. Бунт «потерянного поколения» достиг наивысшей силы только после (и в результате) первой мировой войны, но нельзя забывать, что бунтарские настроения молодежи не были спонтанными, они длительное время вызревали подспудно, прорываясь подчас на поверхность, и не могли не ощущаться уже в предвоенные годы.
Итак, отношение Энтони к деду является резко отрицательным, но сам герой совершенно не способен занять активную жизненную позицию. Упреки в недостаточной мотивации всей атмосферы романа и катастрофы, постигшей центральных персонажей, справедливы, нужно полагать, лишь отчасти. Действительно, может показаться, что крушение героев обусловлено исключительно (или почти исключительно) слабостью их характеров, то есть субъективно. В то же время едва ли можно недооценивать значение объективных факторов. Сложность состоит в том, что они даются в непростом сочетании. Это затрудняет и установление их иерархии.
Энтони, и в этом согласны все критики романа, несомненно, представляет «потерянное поколение», но он значительно отличается от многих литературных героев того же плана.
Для большинства «потерянных» именно война, с которой они были вынуждены столкнуться, не имея ни подготовки, ни закалки, определила разрыв социальных, а отчасти и личных связей. «Потерянные» были очень молоды, и война стала их школой, а Энтони в 1913 г. был уже вполне взрослым человеком и успел к этому времени получить хорошее образование и многое повидать. Первое отличие его от большинства «потерянных» в том и состоит, что военный опыт не стал для него исходным, а лишь укрепил уже выработанные им взгляды. Эти-то взгляды и определяют следующее важное отличие Энтони от многих других представителей «потерянного поколения». Они ищут, им нужны новые моральные и социальные ценности. Пассивная индивидуалистическая позиция их не удовлетворяет, а исторический процесс все больше подчеркивает несостоятельность их индивидуализма. «Потерянные» в романах критических реалистов, как правило, несчастны, и этот момент весьма важен, поскольку затрагивается тема поисков. Энтони же ничего не ищет. Мало того, пока не появляются материальные затруднения, он совершенно доволен своей жизнью, своим положением в мире. Конечно, его не устраивает куцая викторианская мораль, но он не видит в жизни никакой достойной цели. Почти любая деятельность представляется ему вульгарной и недостойной суетой. В сущности, и выбор у него весьма ограничен: занятия политикой в глазах его поколения скомпрометированы, к бизнесу у него нет никаких склонностей, да и занятие это лишено красоты и отмечено той же вульгарностью. Спасти его мог бы, пожалуй, только талант. Не случайно автор упоминает, что герой романа «баловался» живописью и архитектурой. Но таланта у него нет. Впрочем, если бы и был, то весьма сомнительно, чтобы у Энтони достало воли и желания настойчиво трудиться. Так получается, что ум, образование, все достоинства «красивого» героя не находят применения вовне, обращаются на него самого. Познакомившись с Глорией, он признается ей: «Я ничего не делаю, потому что нет ничего, что стоило бы делать» (р. 57). Этот тезис получает красноречивое подтверждение в главе «Симпозиум», несущей важнейшую идейную нагрузку. Рассуждая о смысле жизни, Энтони и его друзья приходят к выводу, который четко формулирует Глория: «Во всяком случае, из жизни можно извлечь только один урок,— перебила Глория, не споря, а с оттенком меланхолического согласия.
— Какой? — отрывисто спросил Мори.
— Что из жизни нельзя извлечь никакого урока» (р. 211).
Итак, Энтони можно причислить к «потерянному поколению» лишь с весьма существенными оговорками. «Потерянность» героев Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и других критических реалистов того же направления обусловливалась исключительно социальными факторами. С Энтони дело обстоит несколько иначе. Неоднократно отмечавшаяся недостаточность мотивации этого образа связана с его, по-видимому, слишком сильно акцентированными личностными качествами. Естественно, возникает вопрос, как в характере героя появились отрицательные субъективные черты — безволие, трусость, слабость, неумение, даже при насущной необходимости, практически применить ум и знания. «Потерянность» отнюдь не подразумевает ни типичности, ни, тем более, обязательности таких черт. Напротив, в этом отношении герои большинства писателей «потерянного поколения» представляют собой прямую противоположность Энтони. Объяснить это можно, лишь обратившись ко второй стороне обрисовки героя в романе.
Вся жизнь Энтони проходит как бы под тенью огромного капитала, который ему предстоит получить. Деньги деда, казалось бы, открывают перед внуком неисчерпаемые возможности. Они позволяют ему получить образование, беззаботно жить в Европе, вступить, если бы он того пожелал, на дипломатическое поприще, наконец, жениться. Они же, по-своему, окрашивают его будущее, и настоящее кажется ему и Глории всего лишь более или менее кратким промежуточным этаном, которому не следует придавать серьезного значения. Но эти же деньги удивительным образом ограничивают мир Энтони, искажают его представление о жизни, влияют на формирование мировоззрения и характера. От начала до конца книги звучание темы денег не ослабевает, разрабатывается она, как и тема «потерянности», на специфически американском фоне и оказывается отмеченной двойственностью, что особенно заметно в заключительном эпизоде романа, на котором необходимо остановиться подробнее.
Выиграв дело о наследстве, Энтони и Глория отплывают в Европу. Здоровье Энтони разрушено и скорее всего непоправимо. Путешествовать ему приходится в сопровождении личного врача. На палубу роскошного лайнера Энтони выкатывают в кресле на колесиках. В его внешности нет и следа красоты. Показательно, что описывая героя, автор на этот раз ограничивается лишь словами «сгорбленная фигура». Заметим, что английское «bundled» в данном словосочетании содержит неприятную коннотацию, связанную с основным значением этого слова — «узел» (обычно — тряпья). Энтони кажется, что он в полном одиночестве провел и выиграл трудную кампанию. Он бормочет: «Я показал им... Это был трудный бой, но я не сдался, и я победил!» (р. 364). Последняя реплика заключает роман. Многие критики отмечают двойственный характер этой концовки. М. О. Мендельсон даже пишет: «...нет, увы, оснований считать, что Фицджеральд пародирует, что в концовке романа скрыта ирония» [44]. Действительно, кажется, что в заключительной сцене писатель необоснованно пытается представить своего героя чуть ли не величественным. Во всем эпизоде есть только одна прямая авторская характеристика («сгорбленная фигура»), которая, кстати, имеет «противовес» в сравнении Энтони с генералом, анализирующим свои победы. Все остальное — либо слова пассажиров лайнера, случайных попутчиков Энтони и Глории, либо изложение мыслей героя, показательно переходящее в несобственно-прямую речь. Такой характер сцены и делает ее двойственной, но ирония в концовке все же есть. Только это целиком — ирония положения, ситуации, и выявляется она не непосредственно в данном эпизоде, а лишь при оценке его в общем контексте романа.
Совершенно понятно, что Энтони исповедует гедонизм, вообще характерный для части американского общества того времени. Все же не следует, по нашему мнению, возводить в абсолют упоминавшийся тезис о бессмысленности жизни. Насколько нам известно, только один критик попытался связать анализируемый роман с отражением экзистенциалистских взглядов, якобы присущих Фицджеральду [45]. А. Н. Горбунов вполне основательно отрицает такую точку зрения. Не будем повторять исследователя, добавим лишь, что очевидная социальная ограниченность образа Энтони и некоторых других персонажей, а также и отношение к ним автора сами по себе опровергают положение американского критика.
Некоторые персонажи анализируемого произведения представляют своеобразную параллель образам первого романа Фицджеральда, но все они значительно объемнее, герои переднего плана дольше остаются в поле зрения автора и читателя, показаны в динамике, характеры рассмотрены глубже, а развитие их прослеживается более тщательно. Параллелизм первого и второго романов проявляется в основном в соответствующих сюжетных линиях.
Глория очень напоминает Розалинду. Даже в подборе показательных деталей и их лексическом оформлении обнаруживается сходство. Так, когда приятель Энтони Мори Ноубл сообщает еще незнакомому с Глорией герою о своей беседе с ней, он замечает: «...эта девушка говорила о ногах. Она говорила также о коже, своей коже. Всегда своей. Она рассказала мне, какой загар ей хочется приобрести летом и насколько это ей обычно удается» (р. 45). Невольно вспоминается, как Розалинда объясняла необходимость разрыва с обедневшим Эмори: «...я не хочу думать о кастрюлях, и кухнях, и щетках. Я хочу беспокоиться о том, станут ли мои ноги гладкими и коричневыми, когда я летом буду на море» [46]. Разница между Глорией и Розалиндой во многом, но не исключительно, обусловлена более глубокой разработкой характера героини второго романа. Глория — более цельная и сложная личность. Кос в чем она заметно превосходит своего возлюбленного, чего о Розалинде никак нельзя сказать. Глория мужественнее Энтони, подчас значительно тоньше чувствует, обладает живым умом, но ей свойственны те же взгляды, что и Розалинде [47].
Эгоистический гедонизм Глории — основа ее отношения к миру. Она хочет, чтобы ее брак был блестящим спектаклем, декорацией которому должен служить весь мир. Высшая ценность для нее — ее красота, непременно требующая роскошного обрамления. «Выдуваем мыльные пузыри, — говорит она, — вот что мы делаем, Энтони и я. И сегодня мы выдули очень красивые, и они лопнут, а тогда мы будем выдувать еще и еще... такие же большие и красивые пузыри, пока мыло и вода не кончатся» (р. 124). Не случайно именно Глория, как упоминалось, наиболее четко формулирует мысль о бессмысленности жизни. Отсюда и ее философия наслаждения моментом (carpe diem древних), нежелание иметь детей. Она боится испортить фигуру и обременить себя заботами во имя будущего, которое для нее не имеет значения, если исчезнет се красота. Отсюда же и ее эгоцентризм. Правда, в лучшую пору любви к Энтони эгоцентризм Глории несколько смягчается большим чувством, но когда обстоятельства меняются, очень отчетливо проявляется как в ее действиях, так и в словах. Во время болезни она говорит в полубреду, выдавая сокровенные мысли, в которых, кстати, отражается и печальный опыт проведенных с Энтони лет: «Миллионы людей... кишат, как крысы, болтают, как мартышки, и воняет от них чертовски... обезьяны! Или вши, наверное. За один действительно прекрасный дворец... на Лонг-Айленде, даже, скажем, в Гринвиче... за один дворец, полный картин из Старого Света и изящных вещей, с аллеями деревьев и зелеными лужайками, с видом на голубое море, и чтобы прогуливались красивые господа в роскошном платье... Я бы пожертвовала сотней тысяч людей, целым миллионом... Плевать мне на них...» (р. 320). Роман, как упоминалось, не оставляет ни малейших сомнений в том, что характеры героя и героини обусловлены теми же социальными факторами.
Рисуя Глорию, Фицджеральд использует, помимо всего прочего, прием контраста. Некоторое время Энтони поддерживает платонические отношения с Джеральдиной, девушкой из простонародья. Ее общество забавляет его. Автор нигде непосредственно не сталкивает Глорию с Джеральдиной. Контрастирование этих образов проводится как бы косвенно. Образ Джеральдины — эпизодический, ей посвящены лишь очень немногие страницы романа, но функция ее в повествовании неоднозначна. Прежде всего Джсральдина (косвенно же) характеризует Энтони, который находит тщеславное удовольствие в том, чтобы производить на нее впечатление. Конечно, Джеральдина не понимает Энтони, только примитивный здравый смысл побуждает ее иногда возражать ему. Энтони выступает перед ней как актер, красота и богатство которого вызывают туманное восхищение неподготовленной аудитории. Джеральдине и в голову не приходит претендовать на какие-то чувства с его стороны. В ее пассивности и обсзличенности проявляется плоскостной характер этого образа. Не случайно основным авторском описании девушки является прилагательное «nondescript» («нечто неопределенное», «неопределенного вида»). Чуть ли не единственным словом, которым она реагирует на высказывания Энтони, оказывается весьма назойливо повторяющееся «cra-a-azy». В контексте его лучше всего, пожалуй, перевести словом «сума-сше-е-едший». Плоскостной характер образа Джеральдины невозможно объяснить ни причинами, отчасти смягчающими «облегченность» образа Адама Пэтча, ни эпизодичностью. В том же произведении Фицджеральд делает несколько эпизодических образов достаточно убедительными. Тема Джеральдины начинает звучать в романе, когда тема Глории уже вполне четко намечена. Краткая линия Джеральдины как бы прерывает на маленький отрезок времени линию Глории. Так имплицируется контраст, и становится ясно, что Джеральднна «органически» не способна ни мыслить, ни чувствовать, как Глория. И отношения у Энтони с Джеральдиной не случайно платонические. «Неопределенного вида» девушка не может обладать красотой, не может пробудить эмоции героя. Писатель видит и показывает злую, бесчеловечную силу богатства. Эта тенденция, безусловно, превалирует в романе, но некоторая двойственность авторского отношения к проблеме проявляется и в художественной слабости образа Джеральдины.
Своеобразную параллель образам Алека и Тома, друзей Эмори Блейна, во втором романе представляют, как упоминалось по другому поводу, образы приятелей Энтони — Мори Ноубла и Дика (Ричарда) Кэрамела. Особенно близок Энтони Мори Ноубл, который к началу действия также успел получить университетское образование и объехать многие страны. Мори наделен живым и насмешливым умом, остроумен, может показаться блестящим молодым человеком, а по взглядам он очень напоминает Энтони. Определенное отношение к жизни Мори выработал еще в студенческие годы: «Его намерением... было потратить три года на путешествия, три года — на полное ничегонеделание, а затем как можно скорее стать очень богатым» (р. 40). Характерно, что Энтони сближается с Мори во время осуществления второй стадии приведенного плана. Оба героя погружены в сладостное ничегонеделание, их тянет к тем же развлечениям, оба находят удовольствие в сходстве взглядов, в подтрунивании над всем окружающим, умеют оценить ум и остроумие друг друга. Наконец, оба должны очень разбогатеть, только Энтони просто ждет смерти деда, а Мори нужно самому позаботиться о будущем. Эта незначительная, на первый взгляд, разница оказывается весьма существенной.
Энтони и в голову не приходит задуматься, каким способом его дед приобрел огромное богатство. Ведь самого Энтони тогда и на свете не было, и он, конечно, просто не может взять на себя нравственную ответственность за давно забытые действия старого Адама. Перейдя в руки Энтони, деньги деда должны как бы претерпеть «моральное очищение», тем более что внук собирается тратить их «красиво». Эти деньги предстают как некая данность, функция которой в немалой степени состоит в том, чтобы обеспечить герою романа определенное нравственное превосходство над друзьями, а наиболее близким из них и является Мори. Энтони и в самом деле кажется более благородным человеком, чем Мори, и Фицджеральд весьма тонко показывает это в нескольких точных деталях. То же заметно и в принципиальных вопросах. Так, у Энтони развязаны руки, и он может позволить себе отдаться непосредственному и искреннему чувству. Энтони женится по любви, его не интересует материальное положение Глории, а для «светского льва» Ноубла жениться на богатой наследнице, брак по расчету — едва ли не единственный способ осуществить последний пункт своей программы, войти в мир большого бизнеса и создать себе состояние теми же, в сущности, средствами, что и осмеиваемый обоими приятелями Адам Пэтч.
Намеченное с самого начала различие в положении Энтони и Мори закономерно приводит к немаловажным последствиям, обнаруживающимся по мере развития сюжета. «Возвышение» Мори, последовательно осуществляющего свой план, идет параллельно падению и обнищанию Энтони. Приятели в конце концов почти полностью теряют друг друга из виду, расходятся, утрачивают не только контакты, но и самую возможность их. Со стороны житейской практики этот процесс представляется естественным, но существует и заслуживающая внимания нравственная сторона. Когда пьяный, опустившийся и нуждающийся в помощи Энтони случайно встречает на улице преуспевающего и буквально излучающего благополучие приятеля, Мори попросту бежит. Правда, его сопровождала дама, по-видимому, жена, и он боялся неизбежной неловкости, но ведь и в дальнейшем, уже зная, в каком положении находится Энтони, он не сделал ни малейшей попытки хотя бы поинтересоваться его судьбой. На последней странице романа в мыслях героя естественно возникает следующий мотив: «Да ведь те самые друзья, которые прежде были особенно жестоки к нему, начали уважать его, поняли, что он все время был прав. Разве Лейси и Мередиты, и Картрайт-Смиты не нанесли им с Глорией визит в «Ритц-Карлтоне» за неделю до отплытия?» (р. 364). Думается, Ноублы в этом списке отсутствуют не случайно. Энтони был слишком оскорблен поведением «друга» при последней встрече, и умный Мори не мог не понимать этого. В линии Мори Ноубла тема денег обретает, какие бы оговорки мы ни делали, дополнительную глубину и объемность.
Другой очень важный аспект той же темы связан с динамикой образа Ричарда Кэрамела, брата Глории. Кэрамел появляется в книге одновременно с Ноублом, но, в отличие от Энтони и Мори, он не бездельничает, а очень упорно трудится над своим первым романом. Сама его поглощенность творческим процессом дает приятелям не один повод подшучивать над ним. Дик не так умен и «блестящ», как Мори и Энтони, но принадлежит к тому же социальному кругу и обладает бесспорным дарованием. Фицджеральд точно выдерживает логику характера, и у читателя не возникает сомнений в праве Энтони и Мори несколько свысока относиться к приятелю. Роман Кэрамела приносит ему довольно большую литературную известность, по этот успех чреват неприятными последствиями. Кэрамел не имеет больших собственных средств, и соблазн стать «модным писателем» и «красиво» устроить свою жизнь оказывается слишком сильным для него. Он пишет книгу за книгой, получает крупные гонорары и все больше стремится потрафить буржуазной публике. Проституирование таланта приводит к его вырождению, и со временем уже трудно узнать в авторе многих коммерческих произведений писателя, когда-то создавшего действительно талантливый роман. Когда в результате случайной встречи по-своему преуспевший Ричард приводит опустившегося Энтони к себе, приятели оказываются в богатой холостяцкой квартире, заставляющей вспомнить прежнее «безупречное» жилище Энтони. И этот иронический штрих подчеркивает достаточно прямо выраженное Фицджеральдом презрение к литературной работе на потребу коммерческим журналам и Голливуду.
В сцене случайной встречи Энтони и Кэрамела подвергаются анализу и некоторые важные жизненные принципы Ричарда, получающего возможность возразить Энтони, обвинить его в бесплодном цинизме и пессимизме, который не приносит счастья, противопоставить катастрофическому безделью Энтони свой «трудовой» успех. Хотя герой романа может трезво оценить продукцию Кэрамела, возразить ему нечего, и он не скрывает от себя, что, не задумываясь, поменялся бы с ним местами. Возможно впечатление, что недалекий и даже внешне некрасивый Кэрамел все же одерживает нравственную победу в споре с некогда благородным и красивым Энтони. Так ли это?
Эпизод встречи приятелей заканчивается характерным пассажем: «И этой ночью, пока Ричард Кэрамел упорно трудился, то и дело ударяя не те клавиши..., работая над своей макулатурой до тех безрадостных часов, когда огонь в камине потухает, а в голове мутится от длительной сосредоточенности, — Энтони, безобразно пьяный, лежал распростертый на заднем сиденье такси, отвозившего его в квартиру на Клэрмонт Авеню» (р. 342). Здесь итоги подводит уже не герой, а писатель. Он не случайно говорит о Ричарде Кэрамеле и Энтони «в едином дыхании» — предложении. «Объединяя» Кэрамела и Энтони «синтаксически», Фицджеральд и всей откровенной лексикой абзаца («макулатура», «безобразно пьяный»), и его неприкрытой иронией показывает, что оба приятеля находятся на одном и том же моральном уровне. Упоминание же захудалой Клэрмонт Авеню вновь иронически подсвечивает скрытое сопоставление квартир: в начале действия Энтони жил на Пятьдесят второй улице, недалеко от Сорок восьмой, где расположена квартира «благополучного» Кэрамела.
Линия Кэрамела, как уже ясно, не является основной в произведении. Падение писателя не прослеживается детально, что, впрочем, можно сказать и относительно обогащения Мори Ноубла. В противном случае роман был бы прежде всего о них, а не об Энтони, но в образе Кэрамела впервые в творчестве Фицджеральда-романиста тема «художник и деньги», тема социально обусловленной коррупции таланта ставится более или менее развернуто и воплощается объемно и убедительно.
Заслуживают внимания некоторые особенности развития художественной техники писателя, проявившиеся в его втором романе. Фицджеральд-романист совершенствует старые и использует новые для него способы художественного претворения действительности. Попробуем кратко охарактеризовать существенные черты формы произведения.
В романе «По эту сторону рая» писатель тщательно строил абзац, как правило, выдерживал смысловое, интонационное, синтаксическое и лексическое единство его внутренней структуры. Во втором романс Фицджеральд, кроме того, заметно совершенствует технику перехода от абзаца к абзацу. Разнообразятся связи между микроэлементами структуры. Связь по содержанию дополняется ассоциативной, переход от общего к частному, конкретному и обратно осуществляется незаметно, и в результате общие сведения как бы включаются в конкретное действие, не тормозя его, и весь эпизод (или микро-эпизод) обретает необходимую целостность и единство. Приведем примеры.
Рассказав о «безупречном» жилище Энтони (глава I), Фицджеральд сообщает о слуге, который поддерживал в квартире порядок, будил по утрам героя, подавал ему завтрак, убирал постель и удалялся, так как обслуживал еще двух других джентльменов. Сведения, сообщенные в абзаце, имеют самый общий характер, но уже из предшествующего описания квартиры и перечисленных в рассматриваемом абзаце действий слуги становится ясно, как проходит утро Энтони от момента пробуждения до выхода из дому. Следующий абзац начинается предложением: «По утрам, по крайней мере раз в неделю, Энтони отправлялся навестить своего маклера» (р. 16). Здесь не просто осуществляется переход к новому действию героя (выход из дому), но происходит естественная смена общей характеристики более конкретной («раз в неделю»), столь же естественно вводится тема дохода Энтони, и читатель узнает все необходимые данные. Следующий абзац содержит общие сведения о том, как проходили эти визиты и какие чувства будили они в душе героя. Имя старого Адама возникает в таком контексте абсолютно закономерно. Абзац заканчивается словом «деньги», что позволяет в следующем абзаце ввести мысли Энтони об ожидаемом наследстве. Здесь автор оправданно прибегает к несобственно-прямой речи. Логика мышления героя не вызывает сомнений, его ассоциации неизбежны. Энтони в мыслях естественно переходит от условного настоящего к прошлому, что подготавливает и переход к следующему абзацу, в котором рассказано о возвращении героя из Рима к заболевшему деду. В следующем абзаце начинается описание встречи деда и внука и осуществляется окончательный переход к важному конкретному эпизоду романа, вовлекающему непосредственное действие. Этот эпизод дается объективированно, с большим диалогом. Собственно действие вступает в свои права.
Столь же четкая и разнообразная система связей в длинной цепочке абзацев обнаруживается на многих страницах романа. В основе этой связи может быть ирония, что, например, имеет место в рассказе об уменьшении дохода Энтони и Глории. Общие сведения конкретизируются в характерном примере, и читатель узнает о неудовлетворенности Глории, которая не может себе позволить модную беличью шубку. Этот эпизод точно не обозначается во времени, но следующий абзац начинается сообщением о том, что «стоял ноябрь» и, ни словом не упоминая о героях романа, автор дает ироническую сводку тех событий в Европе и США, которые привлекают внимание газет. Следующий же абзац вновь вводит Глорию, но уже в процессе конкретного объективированного действия, в живой сцене. Переход от одного из возможных примеров, объясняющих состояние героини на целом этапе развития сюжета, к непосредственному действию утрачивает, таким образом, характер внезапности и, кроме того, получает существенную ироническую подсветку, важную для понимания идейного содержания романа. Проясняется и авторское отношение к описываемому. Такая организация связей между абзацами неизменно позволяет писателю создать сложный эффект, достичь нескольких художественных целей.
Значительно свободнее, чем в первом романе, Фицджеральд оперирует и грамматическими временами. Обычное для повествования прошедшее подчас сменяется настоящим, что не просто оживляет рассказ, но и готовит дальнейшую стадию объективирования — переход к драматизированной сцене (р. 22). Заметим, кстати, что такая драматизация и в книге «Прекрасные и обреченные» не является обязательной, но, в отличие от первого романа, ни разу не затрагивает кардинальных моментов действия и не приводит к слишком большому художественному диссонансу. Смена грамматических времен в повествовании органически дополняется показом того, что происходит в разных местах в одно и то же время. Так объективируется действие и создается возможность рассмотреть определенное сюжетное действие с различных точек наблюдения.
Писатель достигает высокого уровня мастерства и в передаче массовой сцены. Когда, например, Энтони вечером оказывается на людной площади, картина суеты большого города рисуется в основном в восприятии героя, но в то же время и объективируется (р. 26—27). Важное место в сцене занимают отдельные отрывочные восклицания, идущие подряд и создающие впечатление многолюдности. Отрывочные реплики сами по себе передают возбуждение толпы, а грамматическая неправильность отдельной фразы без пояснений подчеркивает, что площадь заполнена очень разными людьми. Так сцена обретает большую убедительность. Вся цепочка восклицаний тщательно подготовлена рассказом о том, что Энтони видит, слышит, даже обоняет, попав в толпу, а лексическое и образное оформление сцепы не только способствует достижению искомого эффекта, но и косвенно характеризует героя через определенную настроенность его восприятия.
В романс «Прекрасные и обреченные» Фицджеральд начинает также понемногу, очень ограниченно экспериментировать с подтекстом, прибегая к нему, когда хочет без лишних пояснений охарактеризовать то или иное действующее лицо, передать его внутреннее состояние через последовательность простых действий или показать, чем в действительности заняты мысли героя. Так, впервые рассказывая Энтони о семье Гилберт, Кэрамел лишь мимоходом упоминает о Глории, но зато много говорит о ее родителях. Как только в речи приятеля возникает незначительная пауза, Энтони «небрежно» («casually») спрашивает о девушке, и читателю становится ясно, что во все время речи Кэрамела он только о ней и думал. Косвенную характеристику старого Адама находим в сцене его беседы с внуком. Старику не нравится намерение Энтони писать историю средних веков, и, возражая, он «естественно» («naturally») говорит об испанской инквизиции и падении нравов в монастырях. «Естественные» банальности Адама Пэтча не только косвенно; характеризуют его самого, но и наглядно свидетельствуют о разнице в мышлении деда и внука. В простой последовательности незамысловатых действий Глории (р. 334—335) ясно отражается ее душевное состояние. Хотя число подобных примеров нетрудно увеличить, подтекст в романе пока еще не становится принципиально важным художественным средством.
В целом, как справедливо отмечала критика, «Прекрасные и обреченные» — произведение, сохраняющее все основные черты «дискурсивного» романа. Многие элементы более строгой организации повествования плохо сочетаются с «дискурсивными» рассуждениями, в узловых пунктах действия, и в ряде сравнительно мелких эпизодов за убедительными живыми сценами не совсем оправданно и слишком часто следуют либо растянутые речи героев, как, например, в главе «Симпозиум», либо не столь необходимые пояснения автора, что приводит к стилистическому диссонансу. Разностильность создастся и драматизованными сценами, художественная необходимость которых сомнительна. Все же организация повествования в целом, как видно, претер-|пела во втором романе писателя весьма существенные изменения. Не остались неизменными и другие элементы стиля Фицджеральда-романиста.
Критика многократно и вполне справедливо отмечала важное место цвета в романе «Великий Гэтсби». Но от цвета, живописного восприятия мира в книге «По эту сторону рая» до сложной и многозначительной цветовой «гаммы зрелого романа писателя — огромная дистанция, на которой «Прекрасные и обреченные» занимают промежуточное место.
В книге «По эту сторону рая» цвет используется крайне ограниченно и очень однообразно. В описании внешности почти неизменно, подчас даже несколько назойливо, упоминается цвет глаз и полос персонажа. Так, автор очень любит каштановые волосы, не упускает случая повторить, что у Эмори зеленые глаза. Постоянно акцен-I тируя подобные детали внешности, Фицджеральд стремится лишь подчеркнуть красоту лица. Той же цели служит упоминание цвета лица. Используется цвет и при описании деталей костюма. В этих случаях писатель хочет не столько создать зримую картину, сколько оттенить социальное положение действующего лица или вполне конкретный психологический момент. Так, рассказывается о том, что подросток Эмори сознательно пачкал свои новые желтые мокасины до тех пор, пока они не стали грязными, зеленовато-коричневыми, обретя, наконец, «зрелый цвет». Этот штрих прекрасно раскрывает мальчишескую психологию. Пурпурная мантия епископа Дар-си определяет его общественное положение, а, скажем, зеленые гребни девушки, случайно встреченной Эмори на одной из многочисленных вечеринок, просто служат ее отличительным признаком, придают эпизодическому персонажу иллюстративного микроэпизода необходимую конкретность. Многократное упоминание цвета в описании костюма может также выполнять чисто служебную функцию. Когда, например, двое студентов решают «наказать» навязчивую девушку, они, готовясь сопровождать ее, намеренно облачаются в одежду самых кричащих тонов.
Цвет используется в книге и в пейзажной зарисовке, но также очень ограниченно и однообразно. Как правило, это отдельное цветовое пятно (белые скамьи в парке, белые кошки на клумбах) или цветовое сочетание предмета (белый дом, красная крыша) и фона (голубое небо, синее море), или же характерная цветовая характеристика местности (коричневая река на Юге США). Крайне редко цвет используется в описании интерьера. Так, подчеркивается преобладание бело-розового сочетания, доминирующего в девичьей комнате Розалинды.
В остальных случаях упоминание того или другого цвета редко обусловливается. Когда, например, Эмори выдумывает дорожное происшествие, он говорит, что автомобиль сбил серую лошадь. Лошадь могла быть и белой, и гнедой. Эмори просто говорит первое, что приходит ему в голову. Точно так же серый автомобильчик Беатрисы мог быть окрашен в любой другой цвет. Остается, пожалуй, сказать лишь о цвете официальной бумаги и гамме цветов в стилизованном «Плаче» епископа Дар-си. В первом случае речь идет об извещении о результатах экзамена (розовая бумага извещает об успехе, голубая — о провале), во втором — о стилизации ирландской фольклорной поэтической формы, требующей устойчивых сравнений типа «его глаза подобны четырем серым морям Эрина». Заметим, кстати, что вообще в сравнениях цвет появляется почти исключительно в речи персонажей, а сами сравнения («белый, как привидение») низведены до штампа.
В романе «Прекрасные и обреченные» сфера цвета как существенной черты стиля Фицджеральда значительно расширяется. В описании внешности от отдельного цветового штриха писатель переходит к сложным цветовым сочетаниям, важным для образности повествования. Когда, например, говорится о том, как возраст сказался на внешности Адама Пэтча, только в четырех строках встречаются следующие детали: глаза, «подвешенные в темно-синеватые мешки», весь облик, ставший «в одних местах из серого белым», в других — «из розового желтым». А заканчивается эта характеристика показательным сравнением: время изменило «его цвета, как ребенок, пробующий коробку с красками». Появляются в описании внешности и дополнительные цветовые детали. Например, «белые усики» на лице женщины или «малиновый нос», «синий лоб» и «желтые... покрасневшие» глаза Кэрамела. При этом цветовой штрих дается уже в сочетании с другими выразительными подробностями.
Новой особенностью является и метафоричность красок. Так, в романе можно обнаружить «серую тяжесть» разговора, «розовый запах», «желтоватый запах», жизнь, «обретшую цвет», и так далее. Заметно и стремление автора дать вместо отдельного цветового пятна целую гамму красок. В этих случаях сцена становится действительно живописной, напоминает насыщенное цветом художественное полотно. Переход от одного к нескольким цветам осуществляется в романс неоднократно. Например: «Фургон мельника, абсолютно белый от муки, с осыпанным мукой клоуном на козлах, проехал мимо них позади белой лошади с черной лошадью в паре» (р. 115). То же наблюдаем в описаниях интерьера. Так, в вестибюле ресторана «высокие желтые лампы» освещают «толстый зеленый ковер, из середины которого белая лестница ведет к танцевальному залу» (р. 352). Красочное, многоцветное зрелище представляет собой и фойе театра перед началом спектакля. Кроме того, краски в романе, как правило, оказываются теперь связанными с настроением героя, его психологическим состоянием, и даже отдельная, частная цветовая деталь, утрачивая прежнюю необязательность, случайность наполняется существенным значением, иногда, например, точно обозначает время действия. Становясь средством живописания и метафорического выражения, сливаясь с душевным состоянием героя, цвет, тем не менее, нигде пока еще не используется как символ, остается идеологически нейтральным.
Заметно возросло мастерство писателя и в некоторых других отношениях. В романе «По эту сторону рая» важная психологическая деталь или даже целый эпизод не всегда оказывались достаточно убедительными. Например, едва ли можно проникнуться чувствами Эмори, когда он «видит» дьявола. Приходилось уже упоминать и о том, как мелодраматично представлена, к тому же в неоправданно драматизованных сценах, любовь Эмори и Розалинды. В романе «Прекрасные и обреченные» Фицджеральд таких промахов уже не допускает. Правда, в книге все еще, помимо некоторой разностильности, можно обнаружить и «красивости» вследствие утрирования романтической манеры (например: «Ее глаза казались мерцающими всплесками на белом озере ее лица...» [48]), но такого рода художественные просчеты уже не так часты и находятся как бы на периферии повествования. Зато очень многие сцены отличаются психологической достоверностью и художественным совершенством. Показателен в этом отношении следующий микроэпизод. В первые дни брака любовь целиком поглощает Энтони и Глорию, которая самозабвенно отдается чувству. Молодые почти ни на минуту не расстаются. Но вот Энтони нужно пойти за билетами на поезд: «Позже, под вечер, когда он возвратился с вокзала с билетами, он застал ее спящей на одной из двух кроватей, и рука ее обнимала какой-то черный предмет, который он сначала не узнал. Подойдя ближе, он увидел, что это его туфля, не особенно новая и не очень чистая, но лицо Глории со следами слез прижималось к ней, и он понял...» (р. 142). Искренность, непосредственность и глубина чувства героини здесь выступают рельефно и трогают читателя. Особое место в приведенном отрывке занимают слова «не очень чистая». С. Пероза абсолютно справедливо подчеркивает значение слова «чистый» («clean») в характеристике героини. «Блистательная Глория, — пишет критик,— которая некогда делила людей на чистых и нечистых, теперь (в эпилоговой сцене романа. — Ю. Л.) предстает «какой-то накрашенной и нечистой» [49]. Характеристика «чистая» в применении к Глории имеет не только прямой смысл, и в цитированном пассаже романа писатель точным употреблением прилагательного, к тому же усиленного, сообщает сцене дополнительную содержательную и эмоциональную насыщенность.
Несколько сложнее выглядит следующий пример. Трудно здесь не вспомнить знаменитое высказывание Чехова о ружье, которое, появившись на сцене в первом акте, в третьем должно выстрелить. Есть такое «ружье» и в романе «Прекрасные и обреченные», но в первом акте пьесы ружье обычно бывает нейтральным, просто висит на стене, лишь своим присутствием намекая на будущее действие. Иначе в романе. Вспомним упоминавшийся эпизод с недоступной Глории беличьей шубкой. В свое время невозможность следовать моде доставила героине книги много неприятных часов, и писатель достаточно подробно останавливается на этом, убедительно показывая и условия жизни обедневших героев, и психологическое состояние Глории. Кажется, тема беличьей шубки развита в эпизоде до конца. Действительно, в дальнейшем повествовании никаких упоминаний о ней нет. Но в эпилоговой сцене тема вновь появляется, на этот раз скрыто. Хорошенькая девушка, случайная попутчица Глории на роскошном лайнере, говорит: «Она (Глория. — Ю. Л.) была здесь минуту назад. На ней была шуба из русских соболей, которая, должно быть, стоила целое состояние» (р. 363). Ружье выстрелило. Глория, страдавшая из-за невозможности приобрести дешевую модную вещь, взяла, наконец, реванш, но заплатила за него слишком дорогой ценой. Не случайно слова «какая-то накрашенная и нечистая» принадлежат той же девушке. Иронический смысл далеко отстоящих друг от друга, но внутренне связанных эпизодов раскрыт теперь полностью.
Об использовании в романе иронии как средства художественного отображения необходимо говорить отдельно. Конечно, А. Н. Горбунов совершенно прав, когда пишет, определяя существенный художественный недостаток произведения: «Вся беда в том, что в самой книге ирония автора плохо сочеталась с гнетущим настроением безысходности, которое постепенно сгущалось к концу романа. Разрешить это противоречие в «Прекрасных и обреченных» Фицджеральд так и не смог» [50]. В самом деле, общий иронический рисунок романа пока не удается, но в частностях и отдельных эпизодах, в разработке важных тем ирония писателя разнообразится и становится более острой. Между прочим, Фицджеральд иронически оттеняет характер основных действующих лиц, наделяя их именами «со значением». Так, «пэтч» по-английски значит «заплата», «кэрамел» — «карамель», «ноубл» — «благородный», а имя «Глория» не нуждается в пояснениях.
Выше уже говорилось об иронической характеристике старого Адама, об иронии положения, ситуации. Остановимся на еще одном моменте. Фицджеральд жестоко иронизирует над отношением официальной Америки к войне. Когда Энтони с другими солдатами едет в военно-учебный лагерь, время в переполненном вагоне тянется для него медленно. Пытаясь отвлечься, он прочитывает газету от начала до конца, и взор его падает на краткое сообщение из провинциального городка Шекспирвиля. Оказывается, Торговая палата Шекспирвиля с энтузиазмом обсуждала вопрос, следует ли называть американских солдат «Сэмми» или «Сражающимися Христианами». Энтони с отвращением бросает газету, но от мыслей о Глории, от одиночества ему становится еще тяжелее: «...он развернул газету и снова начал читать».
Члены Торговой палаты в Шекспирвиле остановились на «Парни-Освободители» («Liberty Lads», p. 257). Иронический контраст между реальным настроением героя (и других солдат) мастерски подчеркивается тем, что фальшивое газетное сообщение «перебивается» отображением мыслей и чувств Энтони. Ирония усиливается в результате неизбежного сопоставления формулы «Liberty Lads» («liberty» значит «свобода») с подчеркнутым в тексте романа высказыванием одного из солдат на предыдущей странице: «Прощай, свобода,— сказал он мрачно. — Прощай, все, кроме офицерских издевательств». Конечно, содержание эпизода еще более заостряется благодаря тому, что «поэтическая» дискуссия имела место в городке с таким громким названием, а выделенное в абзац сообщение о решении Торговой палаты (именно это учреждение «пылало» патриотизмом!) подводит иронический итог всему эпизоду.
Не изменяет писателю и мастерство в построении предложения. Можно привести множество примеров строгой ритмики и музыкальности как отдельной фразы, так и целого периода. Тонко используются различные глагольные формы для передачи статичности и движения, выдерживается, как правило, и соразмерность частей длинного предложения. Все же в этом отношении ничего нового по сравнению с первым романом в книге «Прекрасные и обреченные» не обнаруживается. Разумеется, А. Н. Горбунов прав, отмечая отсутствие «былой легкости» во втором романе писателя [51]. Выше уже говорилось, что второй роман писателя значительно меньше окрашен непосредственным поэтическим чувством, но едва ли можно согласиться с исследователем, когда он делает следующий вывод; «Порой кажется, что Фицджеральд-стилист нарочно спрятался в этом романе, как бы набирая силы, чтобы предстать во всеоружии своего мастерства в «Великом Гэтсби» [52].
Стиль Фицджеральда действительно меняется, но, теряя в одном, приобретает в другом, усложняется и обогащается. Стилистическое несовершенство книги «Прекрасные и обреченные», как мы пытались показать, — следствие того, что автор еще не полностью нашел себя, еще только находился на пути к той собственной манере письма, которая позволяет интегрировать опыт других мастеров прозы, переосмыслить его сделать органической составной собственного оригинального стиля.
Сходство стилей Фицджеральда и Хемингуэя, признаваемое и самими писателями, давно замечено критикой. Наличие такого сходства, в частности, когда речь идет о подтексте, представляется неоспоримым, хотя мы и не склонны проводить далеко идущие параллели. Но роман «Прекрасные и обреченные» еще не допускает подобных сопоставлений, что наглядно проявляется в эпизоде с кошкой, который вполне мог подсказать, навеять Хемингуэю идею появившегося несколько позже его знаменитого рассказа «Кошка под дождем». В рассказе Хемингуэя все построено на подтексте, основная идея нигде не выносится на поверхность, хотя выражается вполне недвусмысленно. У Фицджеральда все иначе. Однажды, когда супруги нервничали, Энтони «просто так» рассказал Глории, как он когда-то ударил кошку, ожидавшую, скорее всего, ласки. Глория реагировала столь бурно, что Энтони попытался уверить ее, что все выдумал. «Но она не поверила ему. В деталях, которые он избрал, было нечто такое, из-за чего она плакала, пока не заснула, плакала о котенке, об Энтони, о себе, о боли, о горечи и жестокости всего мира» (р. 238). В эпизоде с кошкой даже лексика заставляет подумать о рассказе Хемингуэя. Но у Фицджеральда вся сцена имеет частный характер, нужна лишь для показа состояния героев перед тем, как умер Адам Пэтч, а в процитированном заключении эпизода все вынесено на поверхность, и большого обобщения не получается. Вероятнее всего, Хемингуэй увидел в этом эпизоде те интересные возможности, которые могли быть с таким блеском художественно воплощены лишь в присущей ему стилевой манере.
История, рассказанная Фицджеральдом во втором романе, более сложна, характеры обрисованы глубже и отчетливее, в значительной мере преодолена наивность в восприятии непростых жизненных явлении. «Прекрасные и обреченные» — свидетельство того, что писатель создает целую галерею типичных образов. Если Глория очень напоминает Розалинду, то Энтони существенно отличается от Эмори Блейна, и тема «трагических денег», богатства, приносящего несчастье, разрабатывается весьма убедительно. Фицджеральд умеет видеть трагедию, скрытую раззолоченным покрывалом, умеет выявить и ее социальную сущность. Не вдаваясь в подробное обсуждение интересного анализа С. Перозы, заметим, что исследователь прав, когда пишет: «Прекрасные и обреченные» — переходный роман. Он лежит на полпути между юношеским успехом и зрелым достижением. Но если это переходный роман, то потому, что была преодолена некоторая ограниченность книги «По эту сторону рая» [53].
В романе «Прекрасные и обреченные» Фицджеральд обрел собственную большую тему, но это случилось раньше, чем он достиг вершин мастерства. Такова, на наш взгляд, основная причина, обусловившая художественные недостатки произведения. Хотя книга множеством нитей «привязана» к определенному довольно короткому периоду — 20-м годам, представленные в ней социальные проблемы и характеры не теряют интереса и для сегодняшнего читателя, помогают понять многие явления современной Америки. На пути Фицджеральда-романиста книга «По эту сторону рая» была многообещающей заявкой. Второй роман показал, что обещания не были напрасными, и подготовил новый роман — высший этап творчества писателя.
*
Задолго до выхода в свет романа «Прекрасные и обреченные» Фицджеральд начал писать свою единственную пьесу. Приблизительно 18 января 1922 г. он сообщал Перкинсу: «Моя пьеса — жемчужина, но последний акт мне не дается» [54]. Работа замедлялась вследствие рассеянного образа жизни писателя, прерывалась другими творческими занятиями. В сентябре 1922 г. был опубликован очередной новеллистический сборник, не исчезала и необходимость трудиться над новыми «коммерческими» рассказами. Завершение пьесы, на которую писатель возлагал большие надежды, отняло почти весь 1923 г. Фицджеральд присутствовал на репетициях, работал с режиссером, вносил в текст поправки чуть ли не до дня премьеры. Наконец, в ноябре 1923 г. пьеса, получившая название «Овощь», была поставлена и безнадежно провалилась.
Критика этого произведения началась прежде, чем спектакль был поставлен, а текст пьесы опубликован. В конце декабря 1922 г. Перкннс, со всей присущей ему деликатностью, писал Фицджеральду, что во втором, центральном, акте смазывается основной мотив авторского замысла [55]. Ликвидировать этот недостаток так и не удалось. Мало того, обнаружились и другие просчеты.
В «фицджеральдиане» стало традицией говорить о пьесе мимоходом, так как ее слабости очень заметны. Тем не менее некоторые особенности этой неудачи заслуживают внимания. Хотя Фицджеральд и надеялся на финансовый успех и очень хотел его, он относился к пьесе иначе, чем к своим «коммерческим» рассказам, и, по-видимому, имел для этого серьезные основания. Органическим пороком комедии является то, что ни сюжет ее, ни избранная писателем форма не соответствовали затронутым в произведении серьезным темам. Критика не замедлила отметить многие недостатки пьесы, но подчеркнула и некоторые ее существенные сатирические мотивы [56].
Сюжет пьесы несложен. Джерри Фрост, мелкий служащий железнодорожной компании, мечтает о должности почтальона, которую считает своим призванием. Жена стремится пробудить его честолюбие. Выпив подозрительной жидкости, купленной у бутлеггера, Джерри засыпает, и ему снится, что он избран президентом США. Этот сон и составляет содержание второго акта. В конце пьесы мечта Джерри сбывается, он становится почтальоном, и одновременно улаживаются его семейные дела. В комедии действительно есть смешные места, автор умело обыгрывает предоставленные сюжетом возможности, имена «со значением». Но ни забавные сцены, ни тем более «шовианские» ремарки не спасают пьесу. Беда в том, что замысел не находит адекватного воплощения. Сатира писателя должна была быть направлена на разоблачение упоминавшегося мифа, милитаристской политики США, наконец, на осмеяние внутренней политики Гардинга и его администрации, но вместо сатиры получилась поверхностная пародия. Все могло бы быть иначе, если бы Фицджеральд не подставил на место президента и членов его администрации маленького служащего с семьей. История «маленького» человека, пытающегося воплотить в жизнь миф о равных возможностях, по существу является трагической. Если же замысел состоял исключительно в том, чтобы высмеять правительство и политику страны, то носители этой политики сами должны были бы появиться на сцене. К. Эбл совершенно справедливо писал: «Чего пьесе главным образом не хватает — это предмета для политической сатиры. Характеры были задуманы лишь как средство для такой сатиры; поэтому они не вызывают интереса зрителей к развитию характера или к поступкам персонажей» [57]. Стрелы сатиры писателя оказались направленными в разные цели, не поразив по-настоящему ни одной из них. Как видно, Фицджеральда продолжают занимать важные социальные проблемы, но в 1923 г. он еще не может найти подходящую для их отображения художественную форму.
Нужно полагать, Фицджеральд сумел извлечь из неудачи необходимые уроки. После провала пьесы, чтобы покрыть накопившиеся долги, ему пришлось написать целую серию «коммерческих» рассказов, а вскоре писатель и его жена уезжают в Европу, где в основном создается книга, которой суждено было стать высшим достижением Фицджеральда-романиста.
Примечания
1 Broun H. Paradise and Princeton.- In: Collection 1, p. 50-52.
2 R. V. A. S. This Side of Paradise.-In: Collection 1, p. 48.
3 Wilson E. F. Scott Fitzgerald.- In: Collection 2. p. 80.
4 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 23.
5 Hatcher H. Creating the modern American novel. New York, 1935, p. 80.
6 Gross K. G. W. Op. cit., p. 25.
7 Miller 1. E. Jr. A gesture of indefinite revolt.- In: Collection 2, p. 86.
8 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 30.
9 Цит. по: Schorer M. Technique as discovery, 1948.-In: The theory of the novel. New York, 1967, p. 71.
10 Geismar M. The last of the provincials. Boston, 1947, p. 291.
11 Горбунов A. H. Назв. работа, с. 26.
12 Cowley M. Third act and epilogue.- In: Collection 2, p. 66.
13 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 24.
14 Например: Mizener A. The far side of paradise. Boston, 1965, p. 108.
15 Schulberg В. Fitzgerald in Hollywood.-In: Collection I, p. 110.
16 Mizener A. Scott Fitzgerald and his world. New York, 1972, p. 47.
17 Нoftman f. J. The Twenties. New York; London, 1965, p. 127.
18 Еblе K. F. Scott Fitzgerald, p. 48.
19 Cowley M. Op. cit., p. 64.
20 Miller J. E. F. Scott Fitzgerald, p. 27.
21 Мендельсон М. О. Творческий путь Френсиса Скотта Фицджеральда, с. 171.
22 Sklar К. Op. cit.. p. 35.
23 Mizener A. The far side of paradise, p. 113.
24 "The night mist fell. From the moon it rolled, clustered about the spires and towers, and then settled below them, so that the dreaming peaks were still in lofty aspiration toward the sky. Figures that dotted the day like ants now brushed along as shadowy ghosts, in and out of the foreground" (Fitzgerald F. S. This side of paradise. Harmondsworth, 1974, p. 56).
25 Dear Scott/Dear Max. Cassel.; London, 1971.
26 Fitzgerald F. S. The letters, p. 162.
27 Dear Scott/Dear Max, p. 31; Fitzgerald F. S. The letters, p. 163.
28 Wilson E. Fitzgerald before the Great Gatsby.- In: Collection I, p. 84; Mizener A. F. Scott Fitzgerald, 1896-1940.-In: Collection 1, p. 31; Geismar M. Op. cit., p. 297; Еblе К. F. Scott Fitzgerald, p. 73; Miller I. F. Jr. F. Scott Fitzgerald, p. 73; a o.
29 Geismar M. Op. cit., p. 300.
30 Piper H. D. F. Scott Fitzgerald. New York; Chicago, 1965, p. 87.
31 Sklar R. Op. cit., p. 83.
32 Ibid., p. 93.
33 Seldes G. New York Chronicle.-In: Collection 3, p. 125.
34 Cross К. G. W. Op. cit., p. 34-35.
35 Shain С. Е. Scott Fitzgerald. Minneapolis, 1961, p. 30.
36 Miller J. E. Jr. F. Scott Fitzgerald, p. 69.
37 Mizener A. The far side of paradise, p. 153.
38 Perosa S. Op. cit., p. 42.
39 Горбунов А. H. Назв. работа, с. 57; Мендельсон М. О. Творческнй путь Ф. С. Фицджеральда, с, 186-187.
40 Sklar R. Op. cit., p. 99.
41 Fitzgerald F. S. The beautiful and damned. Harmondsworlh, 1974, p. 255. В дальнейшем при ссылке на это издание в тексте указываются только страницы (р.).
42 Miller J. Е. Jr. F. Scott Fitzgerald, p. 61-62.
43 A. H. Горбунов правомерно объясняет это, исходя из времени написания романа (см. Горбунов А. Н. Назв. работа, С. 52-53).
44 Мендельсон М. О. Творческий путь Ф. С. Фицджеральда с. 188.
45 Stern М. R. The golden moment, the novels of F. Scott Fitzgerald. Chicago, 1970.
46 This side of paradise, p. 178.
47 Это отмечал А. Н. Горбунов (назв. работа, с. 57-58).
48 В оригинале: "Her eyes were gleaming ripples in the white lake of her face..." (p. 87).
49 Perosa S. Op. cit., p. 41.
50 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 58.
51 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 59.
52 Там же.
53 Perosa S. Op. cit., p. 46.
54 Dear Scott/Dear Max, p. 51.
55 Ibid., p. 63-65.
56 Hughes R. F. Op. cit., p. 141; Cross K. G. W. p. 40; Latham A. Crazy Sundays. F. Scott Fitzgerald in Hollywood. New York, 1971, p 39; Piper H. F. Scott Fitzgerald, p. 97.
57 Еblе K. F. Scott Fitzgerald, p. 93.
Далее: глава третья На вершине мастерства
Опубликовано в издании: Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. Киев: Наукова думка, 1984 (монография).