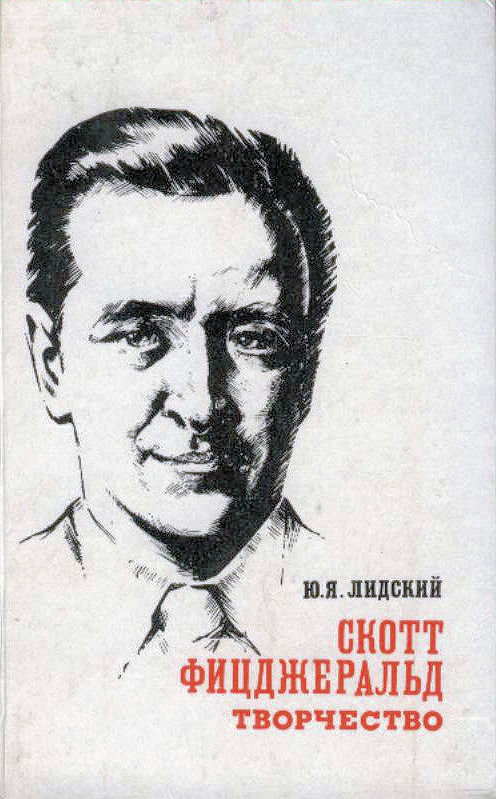Юрий Яковлевич Лидский
Скотт Фицджеральд - Творчество
Глава третья
На вершине мастерства
В начале апреля 1924 г., еще до отъезда во Францию, Фицджеральд в письме Перкинсу сообщает, что работает над новым романом. Работает медленно и тщательно, потому что в отличие от первых романов эта книга должна быть «продуманным художественным достижением» [1]. Два момента в этом заявлении представляют особенный интерес. Прежде писатель любил сообщать, что работает быстро, и, как правило, обещал завершить роман раньше, чем ему удавалось в действительности. Теперь же проявляется более зрелое отношение к делу. Из письма следует также, что по художественным качествам третий роман должен радикально отличаться от двух первых. С августа 1924 г. роман быстро продвигается, и в начале ноября законченная рукопись отсылается в издательство. Сроки здесь подчеркиваются не случайно. Как известно, Фицджеральд начал думать над новым романом еще в 1922 г., вскоре после опубликования «Прекрасных и обреченных», но потребовалось время, чтобы первоначальный замысел прояснился и принял отчетливую форму. Потребовался также новый жизненный и литературный опыт. 11 апреля 1925 г. «Великий Гэтсби» вышел из печати.
Первые отзывы о романе были в основном положительными. Э. Тернбелл, автор подробной биографии писателя, отмечает: «Рецензии — а они были отличными, наиболее впечатляющими из всех когда-либо им (Фицджеральдом. — Ю. Л.) полученных — подчеркивали общий мотив: его превращение из юного вундеркинда в зрелого художника» [2]. Тем не менее к правильному пониманию и аналитической оценке произведения критика пришла далеко не сразу. Мало того, к хору похвал примешивались и отдельные диссонирующие голоса. Один из рецензентов нашел, например, что «"Великий Гэтсби" — посредственный роман» [3]. Это поверхностное суждение не было единственным, и много позже Э. Кейзин оправданно иронизировал относительно «бессмертных взглядов» «Индепендент» в 1925 г., согласно которым «Великий Гэтсби» — это очередной «изощренный юношеский роман» Фицджеральда, и «исторического» заявления миссис Изабел Пейтерсон: «...это книга только одного года» [4].
Скороспелые оценки заурядных рецензентов — дело достаточно обычное. Удивительно, что и Менкен, крупный критик и знаток литературы, враг буржуазного мещанства, для которого он придумал издевательское название «бубуазия» (boob — олух), тоже не понял романа и поторопился объявить его «всего лишь блестящим анекдотом, к тому же не очень вероятным» [5]. Фицджеральд имел все основания жаловаться своему другу Эдмунду Уилсону, что ни одна рецензия, даже самая восторженная, не обнаружила ни малейшего представления, о чем же написана книга [6].
Не только критикам, но и читателям понадобилось много лет, чтобы no-достоинству оценить роман. «Гэтсби» не имел коммерческого успеха, раскупался относительно плохо и лишь после смерти писателя прочно утвердился в списке бестселлеров. Можно предположить, что ни американская критика 20-х годов, ни читатели не были подготовлены к восприятию столь сложного произведения. Кажущаяся простота «Гэтсби» ввела в заблуждение многих. Непривычная форма романа, его непростая образная система и нелегко поддающаяся расшифровке пространственно-временная структура «скрывали» важное и многозначительное социальное содержание. Тематика «Гэтсби» не обнажена, несколько определяющих тем выступают в сложной взаимосвязи, что составляет дополнительную трудность. Думается, именно тот отмечавшийся выше факт, что зрелый роман Фицджеральда представляет собой промежуточную форму между лирическим и аналитическим романом, обусловил историю критического и читательского восприятия «Гэтсби». Впрочем, трудности, с которыми сталкиваются критики, анализируя произведение, весьма многообразны.
«Сюжет романа довольно прост, — пишет А. Н. Горбунов, — и на первый взгляд может даже показаться немного тривиальным» [7]. Но сюжет «Гэтсби» далеко не прост. Сложность его определяется наличием двух основных линий, связанных с образами главных действующих лиц книги. На наш взгляд, линию Ника Каррауэя, от лица которого ведется повествование, можно считать второстепенной лишь на одном основании: раскрывающаяся перед читателем история Гэтсби кардинально влияет на историю Ника, но обратному влиянию не подвергается. Это, разумеется, важный момент, но едва ли достаточный, чтобы делать столь категоричные выводы. В работе «Роман воспитания и его значение в истории реализма» М. М. Бахтин ставит проблему исторической классификации разновидностей романного жанра и делает следующий вывод: «...определенный принцип оформления героя связан с определенным типом сюжета, концепцией мира, с определенной композицией романа» [8]. Сложность и самобытность той разновидности жанра, которую мы обнаруживаем в «Гэтсби», во многом обусловлена именно сюжетными особенностями произведения.
На всем протяжении действия Гэтсби все полнее раскрывается и выявляет свой характер, но ничуть не меняется. Образ Гэтсби, если воспользоваться терминологией М. М. Бахтина, это образ «готового героя». Как бы прихотлива ни была его судьба, как бы ни менялось его положение, сам он остается неизменным. «Движение судьбы и жизни такого готового героя, — пишет М. М. Бахтин,— и составляет содержание сюжета...» [9]. Так ученый определяет один из типов романа.
Другой тип романа связан с иным типом героя и сюжета. Применительно к «Гэтсби» таким героем является Ник. Его определяющей в этом отношении чертой оказывается то, что М. М. Бахтин называет «динамическим единством образа».
Действительно, образ Ника, в отличие от образа Гэтсби, не статичен, а динамичен, дается в существенном развитии, и сама эта динамика обретает сюжетообразующий характер. Как пишет М. М. Бахтин, «изменение самого героя приобретает сюжетное значение, а в связи с этим в корне переосмысливается и перестраивается весь сюжет романа. Время вносится вовнутрь человека, входит в самый образ его, существенно изменяя значение всех моментов его судьбы и жизни. Такой тин романа можно обозначить в самом общем смысле как роман становления человека» [10].
А. В. Чичерин пишет: «Сюжет разгадывает внутреннюю логику бытия, связи, обнаруживает причины и следствия... В сюжете — не наиболее распространенное, а крайнее, дошедшее до своего логического конца. Сюжет раскрывается перед романистом в его умении видеть цельность жизни, закономерность и взаимообусловленность событий, социальные и нравственные итоги» [11]. Достаточно подойти к сюжету «Гэтсби» с таких позиций, чтобы стало ясно значение линии Ника. Она не просто дополняет линию Гэтсби, но имеет первостепенное самостоятельное значение [12]. Если роман Фицджеральда в целом подобен сложному живому организму, то его основные сюжетные линии представляют собой как бы знаменитую «двойную спираль», в которой закодирована многообразная структура целого. Говоря о сюжете «Гэтсби», приходится рассматривать не только обе главные линии, но и их существенную взаимосвязь. Начнем с линии Гэтсби.
Джей Гэтсби, вернувшийся с войны и невероятно разбогатевший незаконными путями, жаждет вернуть любовь богатой Дэзи, которую он полюбил, когда был бедным офицером. Дэзи не дождалась возлюбленного и вышла замуж за молодого богача Тома Бьюкенена. Гэтсби почти удастся достичь цели, но в конце концов планы его рушатся. Когда после решающего объяснения Дэзи и Гэтсби возвращаются из Нью-Йорка, его машина, за рулем которой была Дэзи, сбивает некую Миртл Уилсон, жену полунищего владельца гаража и любовницу Тома. Потрясенный гибелью жены Уилсон считает, что Миртл убил Гэтсби (это подсказывает ему Том, думающий, что машину вел его соперник), и, застрелив мнимого убийцу, кончает с собой. Так выглядит сюжетная линия Гэтсби в самом общем и очень «спрямленном» виде. В романс же многие «загадочные» действия героев получают объяснение далеко не сразу. Весьма вероятно, что именно «детективный» момент в развитии линии Гэтсби побудил Менкена объявить книгу своего рода анекдотом. Скажем сразу, что «детективные» элементы сюжета явились следствием глубокого и тщательно продуманного авторского плана. Фицджеральд отлично знал, что делает, и в цитированном уже письме Эдмунду Уилсону справедливо утверждал: «Не делая никаких обидных сравнений между классами А и С, можно сказать, что если мой роман — анекдот, то «Братья Карамазовы» тоже. Исходя из определенной точки зрения, их можно было бы свести к детективу» [13].
Кратко изложить линию Ника сложнее, чем линию Гэтсби, потому что, искусственно разделяя их, неизбежно приходится жертвовать существенными связями, отражающими, помимо всего прочего, влияние истории одного героя на судьбу и мировосприятие другого. Ник тоже участвовал в войне, вернувшись с которой, решил уехать с родного Запада в Нью-Йорк и заняться кредитным делом. Случайный сосед Гэтсби и троюродный брат Дэзи, он оказывается свидетелем происходящего. Ник знакомится с Гэтсби (Тома он знал еще по университету), с Миртл Уилсон, вступает в связь с приятельницей Дэзи Джордан Бейкер. Перед ним полностью раскрывается внутренний смысл событий, и, похоронив Гэтсби, он, хотя это ему нелегко, порывает с Джордан, а затем оставляет опостылевший Нью-Йорк, кредитный бизнес и возвращается на Запад.
В 1936 г. в статье «Крушение» Фицджеральд, между прочим, писал: «...подлинная культура духа проверяется способностью одновременно удерживать в сознании две прямо противоположные идеи и при этом не терять другой способности — действовать» (III, 428). Критика назвала это «двойным видением» Фицджеральда, и эту особенность зрелого творчества писателя необходимо принимать во внимание как при анализе произведения в целом, так и при детальном рассмотрении отдельных его элементов. «Двойное видение» существенно и для правильной оценки основных образов героев романа.
В накопившейся литературе выделились некоторые основные направления критического анализа образа Гэтсби. Они включают широкий диапазон вопросов. Так, Г. Д. Пайпер убедительно доказывает, что прообразом Гэтсби был богатый мошенник Фуллер, громкое судебное дело которого подробно освещалось в прессе [14]. Проблемы литературных предшественников Гэтсби касается в общей большой работе Р. Чейз. Американский исследователь находит, что Гэтсби продолжает ряд, начатый бальзаковским Растиньяком и Жюльеном Сорелем Стендаля, но также отмечает связь этого образа с бедным Ричардом Франклина и романтическими героями литературы США: Натти Бампо (Купер), Измаилом (Мелвилл) и Геком Финном (Твен) [15]. Заметим, что образ Гэтсби в связи с идеологией американского общества XV11I в., и Франклина в частности, рассмотрен и во многих других работах [16]. Кроме того, и это, пожалуй, основное, почти все американские исследователи, так или иначе писавшие о романс, единодушно утверждают, что в образе Гэтсби развенчивается американский миф об успехе, о равных возможностях для каждого.
Анализируя образ Гэтсби, советские критики выделяют ряд очень существенных моментов. Так, А. Старцев справедливо находит образ Гэтсби двойственным и делает следующий общий вывод: «Проблема Гэтсби, который не сумел отделить свой идеал любви от идеала богатства, сводится в конечном счете к моральной и эстетической капитуляции человека перед мощью денег» [17]. М. О. Мендельсон также отмечает двойственность героя [18]. Я. Н. Засурский проводит параллель между Гэтсби и Клайдом Гриффитсом Драйзера, причем делает тонкое замечание: «Если Клайд Гриффите погубил Роберту ради стремления жениться на богатой девушке, то Гэтсби добивается богатства ради того, чтобы завоевать право на любимую им женщину, но это оказывается невозможным, и в этом его трагедия. Трагедии Гриффитса и Гэтсби совсем не похожи друг на друга, но первопричина у них одна — это американская трагедия, трагедия человека, погубленного буржуазной Америкой с ее девизом: деньги все могут» [19]. А. Н. Горбунов рассматривает образ Гэтсби подробнее, связывает историю героя Фицджеральда с историями молодых людей XIX в., известными по романам Стендаля и Бальзака, проводит параллель между Гэтсби и Клайдом Гриффитсом [20].
Отдельно следует остановиться на трактовке образа Гэтсби А. М. Зверевым. В своей концепции исследователь исходит из истории страны и ее литературы, отмечая, что «ни Уитмен, ни Твен еще не поставили проблему «американской трагедии», иначе говоря, трагедии, действие которой во многом предопределено специфическими особенностями американской жизни, а конфликт, сколь бы традиционным он ни был для литературы критического реализма, все же не может быть до конца понят без учета социальной мифологии, традиций, идеалов, психологических стереотипов, отличающих американское общество и американцев. Эту проблему выдвинуло перед литературой США уже XX ст., а своих исследователей она нашла прежде всего в лице Драйзера, автора «Трилогии желания», «Американской трагедии», «Оплота», и Фицджеральда, автора «Великого Гэтсби» [21].
Развивая это положение, А. М. Зверев пишет: «Одной из прочнейших опор, на которой десятилетиями покоилась «американская мечта» (мечта о полной свободе для каждого, об успехе. — Ю. Л.), было убеждение в том, что Новый Свет представляет собой своего рола райский сад... и что Америке суждено явить миру пример «нового Адама» — личности, ...вернувшей себе ту бесхитростную простоту и естественность помыслов, устремлений, жизненных принципов, без которой целостная человеческая индивидуальность невозможна» [22]. Главными факторами, обусловившими появление и стойкость этой иллюзии, исследователь справедливо считает многолетнее существование подвижного «фронтира» и молодость страны, в которой на протяжении сравнительно длительного времени сохранялась «подвижность социальной структуры и общественных отношений, иерархическая форма которых (неизбежная во всяком буржуазном обществе) на ранних этапах американской истории выступала не с такой наглядностью, как в Европе» [23].
Перейдя непосредственно к образу Гэтсби, А. М. Зверев утверждает, что «конфликт «мечты» и низкой прозы действительности... должен быть истолкован... как борьба двух полярных начал в сознании самого Джэя Гэтсби: в некоторых отношениях — законченного «нового Адама, в иных же — не менее законченного Растиньяка на американский манер» [24]. Отсюда, полагает критик, неясность и расплывчатость в характере Гэтсби: «На одном полюсе мечтательность, на другом — практицизм и неразборчивость в средствах» [25]. Очень близкую к только что изложенной позицию занимает и Т. Л. Морозова, обнаруживающая также закономерные черты сходства в историях и образах Мартина Идена, Клайда Гриффитса и Джея Гэтсби. На примере Гэтсби критик показывает вырождение американского просветительского идеала [26].
Всесторонний анализ образа Гэтсби, вероятно, просто невозможен в отрыве от осмысления всей сложной структуры романа. Кроме того, приходится учитывать, что между действующими лицами существуют тонкие и множественные связи, не всегда заметные с первого взгляда. С другой стороны, невозможно рассматривать всю идейно-эстетическую проблематику книги одновременно. Некоторый компромисс здесь, вероятно, неизбежен. Гэтсби представлен в романе объективированно, то есть в живой сцене и диалоге, но для понимания этого образа не меньшее значение имеют оценки Ника Каррауэя. Чтобы преодолеть возникающую таким образом дополнительную трудность, достаточно сейчас отметить, что именно Нику в романе поручена функция судьи, выносящего нравственный приговор.
М. Перкинс понимал, что карьера Гэтсби должна оставаться для читателя тайной, но в то же время советовал Фицджеральду несколько прояснить хотя бы черты внешности героя и ввести намеки на его таинственную деятельность [27]. Судя по письмам Фицджеральда и окончательному тексту романа, кое-что в этом направлении было сделано, но в первой половине произведения Гэтсби остается во многом загадочной фигурой. Почему? Не будем пока касаться структуры романа, возьмем образ героя как таковой. А. М. Зверев пишет: «Неясность, расплывчатость заключена в самом характере Гэтсби (настоящее имя героя Джеймс Гетц.— Ю. Л.), и дело вовсе не в том, что он недостаточно умело выписан. Он расплывчат по сути, потому что в душе Гэтсби разворачивается конфликт двух несочетаемых устремлений, двух совершенно разнородных начал» [28]. Выше отмечалось, как именно критик — совершенно справедливо — определяет эти начала. Чтобы рассмотреть их подробнее, остановимся на истории Гэтсби.
Сын бедных фермеров-неудачников, Гэтсби с детства мечтал об успехе. На последнем, чистом листе книжки «Прыг-скок, Кэссиди» юный Гэтсби изложил свою программу. Она преследует четкую цель — добиться успеха в жизни. В условиях США это означает только одно — разбогатеть. Деньги выступают в качестве единственного мерила успеха не случайно. Сознание переселенцев, прибывших в Америку в XVIII в., было сознанием буржуазным. К. Маркс и Ф. Энгельс характеризовали Робинзона Дефо как «настоящего буржуа» [29]. Такими же настоящими буржуа были и американцы XVIII в., еще в предреволюционный период естественно устанавливавшие на новой родине буржуазные же социальные отношения. Упоминавшиеся специфические особенности истории США обусловили появление и живучесть мифа о равных возможностях для каждого, то есть о возможностях разбогатеть, если придерживаться стандартных буржуазных добродетелей. Наиболее крупным выразителем такой идеологии был Бенджамин Франклин. С 1732 по 1757 г. он издавал «Календарь бедняка Ричарда», своеобразное руководство по достижению успеха, имевшее и второе название — «Путь к богатству». В знаменитой «Автобиографии» Франклин проповедует те же идеи, ссылаясь на собственный жизненный опыт и формулируя тринадцать основных добродетелей: воздержание, молчаливость, порядок (аккуратность), решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие, смирение. Хотя эти добродетели имеют в основном моральный характер, награда, по мысли автора, приходит в виде материального успеха.
Многие зарубежные критики, а у нас Т. Л. Морозова, справедливо отмечают, что юношеская «программа» Гэтсби пародирует, резко снижая, правила Франклина. «Возникает,— пишет Т. Л. Морозова,— вопрос: для чего Фицджеральду понадобилось это ироническое соотнесение Гэтсби с Франклином? Ответ напрашивается сам собой: затем, чтобы показать, во что выродился просветительский идеал в условиях капиталистической Америки XX в., указав тем самым и на некую внутреннюю слабость, присущую самому этому идеалу, самой американской мечте» [30]. На протяжении всей своей «карьеры» Гэтсби неукоснительно следует заповедям Франклина. Так, в юношеские годы бережливость героя сводилась к откладыванию трех долларов в неделю, а чистоплотность — к решению бросить курить и жевать резинку, через день принимать ванну. Разбогатевший Гэтсби по-своему выполняет те же правила. Он молчалив, воздержан (не пьет), чистоплотен, аккуратен и так далее. Он стремится никому не причинять вреда (справедливость). Когда, например, на одном из его приемов какая-то гостья случайно разорвала платье, он поторопился прислать ей новое, роскошное и очень дорогое. Но отмеченное Т. Л. Морозовой снижение непременно проявляется в каждом случае, что заметно и по реакции окружающих Гэтсби лиц. Так, приятельница девицы, получившей новый наряд, заявляет: «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было» (I, 322). Впрочем, от юношеской «программы» Джеймса Гетца до деятельности взрослого Джея Гэтсби далеко.
Если Франклин добился успеха, следуя своим правилам, то в истории Гэтсби несостоятельность старого идеала в новое время сказывается на всех этапах жизни героя. Стремясь следовать правилам Франклина, Гэтсби вынужден постоянно отказываться от лежащей в их основе нравственной идеи, поступать вопреки их духу. Сначала он «околачивался на побережье Верхнего озера, промышляя ловлей кеты, добычей съедобных моллюсков, всем, чем можно было заработать на койку и еду» (I, 367). Но эти занятия не приносят ему душевного спокойствия. Потом Гэтсби поступил в колледж, оплачивая занятия работой дворника, но и там пробыл лишь две недели. Наконец, судьба свела его с Дэном Коди, обладавшим многими чертами американских пионеров. К моменту встречи с Гэтсби Коди, разбогатевший на нефтяной спекуляции, успел спиться и был на грани слабоумия (даже в такой детали подчеркивается, что пионерские времена прошли). Гэтсби стал его доверенным лицом, плавал с ним на яхте, «проходя курс» специфического американского воспитания, должен был получить относительно крупную сумму по завещанию патрона, но деньги достались любовнице Коди, и Гэтсби остался с пустыми руками. Когда началась война, офицерский мундир позволил герою встретиться с богатой Дэзи. Гэтсби полюбил девушку, и с этого момента именно в ней воплотился его идеал.
Дальше несостоятельность мечты героя проявляется по-разному, приводя в конце концов к трагедии. Дело не только в том, что Дэзи предала возлюбленного, оказалась органически не способной выступить в качестве идеала. Не менее важно, что Гэтсби «брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая, — так взял он и Дэзи однажды тихим осенним вечером, взял, хорошо зная, что не имеет права коснуться даже ее руки» (I, 409). Все пути к успеху, кроме безнравственных, в Америке XX в. закрыты. Стремясь возвратить любимую, Гэтсби вынужден прибегнуть к противозаконным и, конечно, с любой точки зрения, аморальным средствам. И здесь уже опровергается не только дух нравственных правил XVIII в., но и, пожалуй, главная конкретная установка. Совершая свои аферы, Гэтсби не мог не знать, что нарушает заповедь справедливости, наносит ущерб своим ближним. Он идет на это, потому что нет другого пути, и развенчание старого идеала открывается еще одной стороной, имеющей самое непосредственное отношение к образу героя.
Когда, на второй странице романа, речь впервые заходит о Гэтсби, Ник говорит: «Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом», — это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу» (I, 288). Романтическое начало в характере Гэтсби не раз подчеркивается в романе, и в конце концов Ник начинает по-настоящему понимать человека, о котором рассказывает: «В сущности, Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд, вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном божьим — если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, — и должен был исполнить предначертания Отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями семнадцатилетнего юноши и остался верен этой выдумке до самого конца» (I, 367).
В самом характере Гэтсби обнаруживаются черты, открывающие возможность еще одной параллели с Франклином. Как ни буржуазен был крупный ученый и просветитель XVIII в., его личная одаренность не подлежит сомнению. Не только следование своим заповедям, но и разнообразные таланты помогли ему добиться успеха. При этом Франклин-ученый и просветитель и Франклин — «настоящий буржуа» находились в относительной гармонии друг с другом, и самая относительность этой гармонии в XVIII в. еще не могла обнаружиться отчетливо. Иное дело Гэтсби. Он тоже по-своему велик. Величие его — в верности идеалу, верности чувству, в той силе характера, которая позволяет пройти по избранному пути до конца. Гэтсби сохраняет благодарное чувство к Дэну Коди (в спальне героя висит портрет этого авантюриста), остается верным возлюбленной и тогда, когда она его предает. Он обладает и другими незаурядными качествами. Не случайно, например, его фронтовая карьера была столь успешной. Мужество Гэтсби, подобно его верности, доходит до героизма, и очень показательно, что его военные подвиги не имеют никакого отношения к истории его любви. Словом, в некоторых отношениях Гэтсби — человек незаурядный, обладающий неоспоримыми чертами во многом привлекательной личности. Черты эти раскрываются перед читателем, но одно-временно, не затихая, звучит и другой мотив, выявляется все та же двойственность характера, а в результате сопоставление с Франклином и по этой линии приобретает пародийно-ироническое качество.
Время зло подшутило над Гэтсби, как и над некоторыми его литературными предшественниками. Гэтсби совершенно — и наивно — убежден, что прошлое можно вернуть. «Нельзя вернуть прошлое? — недоверчиво воскликнул он. — Почему нельзя? Можно!» (I, 377). Трагедия Гэтсби в том, что он представляет собой живой анахронизм. Черты, «снижающие» его образ, — столь же несомненная примета времени, как и точное указание года и месяцев действия. Т. Л. Морозова пишет: «В каком-то смысле можно сказать, что он так же опоздал родиться, как Жюльен Сорель» [31]. Это совершенно справедливо.
В американской критике давно уже намечены и другие сопоставления. В упоминавшемся труде «Американский роман и его традиции» (1957) Р. Чейз пишет: «У него (Гэтсби. — Ю. Л.) есть кое-что от того почти божественного безумия, которое мы находим у Гамлета, Жюльен а Сореля или Дон-Кихота. Великим достижением Фицджеральда было то, что он открыл эту возможность и заставил своего американского героя действовать в драме, в которой прежде никто не действовал... Никого раньше не заставляли играть свою роль в реалистически представленной социальной ситуации. Фицджеральд открыл эту возможность, но едва ли пошел дальше. Только на блистательный миг было дано ему подняться до уровня величайшего искусства» [32]. Не будем сейчас говорить о масштабе дарования Фицджеральда, которого критик, — на наш взгляд, несправедливо, — считает второстепенным писателем. Остановимся на некоторых сторонах интересного сопоставления.
Конечно, Жюльен Сорель опоздал родиться. Исторически сложившаяся социальная ситуация, в которой ему пришлось жить и проявлять свои незаурядные способности, была против него. Героическое время осталось позади, и Жюльен задыхался в среде, куда проник столь успешно. Его «почти божественное безумие» — результат непреодолимого противоречия, расхождения между его истинным характером и жалкими обстоятельствами, обусловленными временем. Но нельзя упускать из виду, что Жюльен Сорель действовал сознательно и обдуманно, в соответствии с заранее выработанным планом и лишь на краткие мгновения позволял (именно позволял!) непосредственному искреннему чувству возобладать над рассудком, диктующим необходимость лицемерить, приспосабливаться, поступать вопреки собственным убеждениям и контролировать каждое движение и слово. «Безумие» Жульена только потому и можно назвать «почти божественным», что в нем восторжествовала истинная гуманистическая сущность его личности. План же его был вполне реалистическим и мог бы полностью осуществиться, если бы упомянутое противоречие не сделало положение стендалевского героя невыносимым. Никакой идеальной стороны план его не имел вовсе. Во времена «Красного и черного» буржуазный характер послереволюционного французского общества для проницательного ума был вполне очевиден.
Несколько иначе у Гэтсби. Его план — разбогатеть любой ценой, чтобы вернуть себе любимую — заранее обречен на неудачу в самой главной части. Разбогатеть преступными путями оказалось удивительно просто. А вот "идеальная» часть плана была абсолютно неосуществимой как раз потому, что была идеальной, а в XX в. этот идеал мог относиться только к одной области — мифологической. Заметим кстати, что и все действия Гэтсби, направленные на достижение его конечной цели, выглядят романтически наивными и простодушными.
«Почти божественное безумие» Дон-Кихота — совсем иное дело. Какой бы то ни было эгоистический практицизм совершенно чужд герою Сервантеса. Дон-Кихоту ничего не нужно приобретать, он не руководствуется никакими эгоистическими мотивами. Даже «остров» понадобился ему не для себя, а для Санчо Пансы. «План» Дон-Кихота целиком идеален, является, в сущности, воплощением чистого гуманизма. Рыцарь бросает вызов всему злу мира. Это вполне соответствовало духу Возрождения, и «безумие» Дон-Кихота действительно можно назвать божественным, потому что в нем не было и не могло быть снижающих мотивов, абсолютно неизбежных в случае с Сорелем, а тем более с Гэтсби. Оставляя в стороне различие дарований, их масштабы, можно утверждать, что разница в «безумии» Дон-Кихота, с одной стороны, и Жюльена и Гэтсби, с другой, обусловлена именно временем. В образе своего героя Фицджеральд просто не мог «пойти дальше». Для этого потребовался бы другой герой и другой роман. Капиталистическое общество в 20-х годах XX в. далеко ушло от времен Сервантеса, и не вина Фицджеральда, что в современной ему действительности не было ни Гамлета, ни Дон-Кихота.
В приведенной цитате из книги Чейза привлекают внимание слова «американский герой». Гэтсби в самом деле настолько же американец, насколько Жюльен Сорель француз, а Дон-Кихот испанец. Американизм Гэтсби важен не только в плане жизненной убедительности. Типичные национальные черты героя выполняют и другую функцию, отчасти также связанную с временем. Возникает естественный вопрос: как мог взрослый и умудрен-ный немалым опытом Гэтсби сочетать, не обнаруживая никакого противоречия, идеальные устремления с безнравственной и противозаконной деятельностью? Как мог он, не задумываясь, двигаться к идеалу по пути порока? Сам Гэтсби не только не видит здесь несовместимых тенденций, но вовсе не задумывается над этим. Может даже сложиться впечатление, что он действует как бы инстинктивно. Отсюда, между прочим, и наивность его плана, а иногда и трогательная наивность поведения, весьма странная для прожженного мошенника. Нет ли здесь насилия над образом или, по крайней мере, некоторой натяжки? Нет, и объяснение этому как раз в том, что Гэтсби американец. При всей разнице целей, преследуемых им и Клайдом Гриффитсом, есть у них и общее — поверхностно-наивное восприятие жизни, являющееся специфическим результатом некоторых особенностей истории страны.
В 20-х годах XX в., как уже говорилось, стало ясно, что успех и равные возможности для каждого — американский миф. Достаточно было сказано о происхождении и причинах устойчивости этого мифа. Сейчас речь о другом. После первой мировой войны не только отчетливо определилась коренная общность американского и европейского капитализма, но обнаружилось и то, что именно в США уродства несправедливого социального устройства достигают небывалого размаха, проявляются в невиданной мере. Экономические причины этого давно выяснены. Отметим, что сказалось также отсутствие культурных традиций, уходящих в глубь веков, и засилие техницизма в ущерб духовному развитию. В очень интересной статье Д. Траск, между прочим, писал: «Американцы легко допускали, что духовное удовлетворение будет автоматически сопутствовать материальному успеху» [33]. Американцы прежде всего — практики (в распорядке дня юного Гэтсби интересны в этом плане пункты об изучении электричества и обдумывании нужных изобретений). Не случайно именно США стали родиной разного рода школ так называемой практической философии. Нигде накопление богатства не рекламировалось с таким крикливым бесстыдством и не отождествлялось в сознании людей с понятием успеха в такой мере. Наглое торжество чистогана привело к его культу. Гэтсби и не нужно было задумываться, моральны или безнравственны пути к успеху в американском понимании. Деньги сами себя оправдывали, и недовольный бедностью и ограниченностью своих возможностей герой «брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая...» (разрядка моя. — Ю. Л.). Английское unscrupulously буквально не имеет значения «не раздумывая», но, исходя из контекста, переводчик выбрал, на наш взгляд, более точный русский эквивалент, чем, например, «нещепетильно» или «бесстыдно», и верно передал идею и дух оригинала [34].
Сугубо американскими, конечно, являются и некоторые черты Гэтсби, роднящие его с типом «нового Адама». А. М. Зверев верно замечает, что связанный с «фронтиром» период истории США отразился на сознании американцев, в котором «жила убежденность, что всегда можно отыскать где-нибудь «в глубинке» никем не тронутый уголок...» [35]. «Я, — заявляет у Твена Гек Финн, — должно быть, удеру на индейскую территорию, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал» [36]. Натти Бампо у Купера живет среди индейцев, «на природе». Еще в XIX в. в стране было достаточно много девственных земель, «никем не тронутых уголков». Гэтсби живет в другое время, и ему остается бежать только в прошлое, которое, он уверен, можно вернуть.
«Новый Адам» может жить лишь простой жизнью и сам «по определению» является простым, бесхитростным, «естественным» человеком. Какое-то время казалось, что Америка — идеальное место для торжества руссоистского идеала. Это представление, ставшее в США XX в. явно анахроничным, также своеобразно преломляется в личности Гэтсби. Образ Гэтсби сложен, но, как ни парадоксально это звучит, сам он прост, даже примитивен. Удивительным простодушием отмечены многие его действия. Уже разбогатев, обеспечив все, по его мнению, необходимое, чтобы вернуть возлюбленную, он устраивает прием за приемом в надежде на посещение Дэзи. Когда Джордан Бейкер передает Нику просьбу Гэтсби устроить ему свидание с любимой, Ник «потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал пять лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мошкары — и все только ради того, чтобы...» (I, 350—351). «Естественный» Гэтсби вовсе не замечает движения времени, хочет, чтобы Дэзи сказала мужу, что никогда его не любила, хочет жениться на ней и увезти ее из дома ее родителей, как будто не прошли годы и ничего не случилось.
В американской критике встречаются, правда с оговорками, попытки связать Гэтсби с «потерянным поколением» первой мировой войны [37]. Гэтсби действительно относится к «потерянному поколению», но не войны, а истории США. Собственно, первая мировая война никак не повлияла на его мировосприятие. Буквально все «потерянные» проходят школу окопного «воспитания» и приходят к отказу от своих довоенных настроений и убеждений. Война заставляет их задуматься над истинностью внушавшихся с детства идеалов, моральных категорий и отвергнуть их как ложные. Другими словами, война становится фактором их духовного развития. Ничего подобного не случается с Гэтсби. К 1917 г. он успел уже пройти жизненную школу. В его жизни война — явление «механическое». Сначала офицерский мундир позволяет ему сблизиться с Дэзи, потом военные условия отрывают его от возлюбленной, но даже это не заставляет Гэтсби задуматься над сущностью войны, своим отношением к ней, как не задумывается он, вступая на путь противозаконных финансовых операций. Образы «потерянных» по природе своей не могут быть статичными, а образ Гэтсби статичен. Джеймсу Гетцу было семнадцать лет, когда он «выдумал себе Джея Гэтсби». и Джей Гэтсби «остался верен этой выдумке до самого конца».
Именно этим, кстати сказать, объясняется отсутствие в романс развернутой истории пребывания Гэтсби на фронте. Она просто не нужна, и Фицджеральд абсолютно правомерно ограничивается краткой «технической» справкой. Если в романе «По эту сторону рая» военный опыт героя существен для его характеристики, и писатель, не знавший фронта, допустил серьезный художественный просчет, представив окопный опыт Эмори схематически, то в «Гэтсби» коротенькое сообщение о пребывании героя на фронте оказывается единственной художественно оправданной формой введения соответствующего материала. Заметим сразу, что столь же оправданно опущено в романе описание предпринимательской деятельности Гэтсби. Т. Л. Морозова верно пишет по этому поводу: «...Фицджеральдом руководило безошибочное художественное чутье, подсказывавшее ему, что если он сосредоточит внимание на финансовой стороне деятельности своего героя, образ Гэтсби будет не дополнен, а искажен — это будет уже не Гэтсби. Гэтсби не бизнесмен, а мечтатель» [38].
Гэтсби — мечтатель с самого начала обречен. Хотя в его образе раскрываются, как было показано, две несовместимые тенденции, превалирует лишь одна из них. Если бы мы попытались представить себе благополучное (для Гэтсби) разрешение коллизии, то увидели бы, что герой все равно обречен, потому что мечта его никак не могла осуществиться. Разочарование так или иначе ожидало Гэтсби, а расстаться с мечтой он не мог. Она составляла самую основу его личности, его жизни. Поэтому совершенно прав А. Старцев, когда пишет, что Гэтсби «фактически расстается с жизнью еще раньше, чем его настигает пуля убийцы» [39]. В характере и судьбе Гэтсби как бы скрыты два плана: конкретно-событийный, связанный с непосредственным развитием сюжета, и обобщенно-философский, отражающий двести лет социальной истории США.
Значение образа Ника Каррауэя для правильного и полного понимания романа косвенно отражается в том, что, рассматривая его, мы неизбежно сталкиваемся с теми же трудностями, которые возникают при анализе образа Гэтсби. Почти все критики, писавшие о Нике, подходили к проблеме с точки зрения особенностей повествовательной перспективы, то есть вопросов, связанных с выбором лица, от которого ведется повествование. Нас пока что интересуют другие аспекты этого образа, менее исследованные, но затронутые в некоторых работах.
Ф. Хоффмен отмечает динамику взглядов Ника в его отношении к Гэтсби: от полного неодобрения до признания неотесанности и вульгарности чертами второстепенными. «Каррауэй становится, — пишет критик, — преданным стражем иллюзии Гэтсби, принимает на себя ее защиту против «всего отвратительного», равнодушного, эгоистического света, который посещал приемы Гэтсби, но игнорировал его в час его мук и смерти» [40]. P. Скляр находит, что двойственное положение Ника — наблюдателя и одновременно действующего лица — позволяет ему «охватить всю жизнь романа в своих оценках и понимании» [41]. Кроме того, исследователь делает существенное наблюдение относительно исполненных значения переездов героя с Запада на Восток и снова домой (на Запад). «...Внутри этого круга, — справедливо утверждает Р. Скляр,— находится круг природы, дающий жизнь, и цикл времен года, заканчивающий жизнь» [42].
Значительно подробнее анализирует образ Ника Т. Хэнзо [43]. Критик намекает на значение военного опыта Ника для понимания его характера, отмечает наличие у героя определенной нравственной позиции, с которой Ник судит не только окружающих, но и самого себя, и приходит к следующему выводу: «Великий Гэтсби» — не мелодрама о Джее Гэтсби, а определение тех смыслов, в которых Ник понимает слово «великий». Его предмет — американская мораль» [44]. Анализ Т. Хэнзо, весьма логичный и во многом убедительный, не лишен существенных недостатков. В частности, слишком большое, на наш взгляд, значение придается узко понимаемому конфликту между «живой еще пуританской моралью Запада и послевоенным гедонизмом Востока» [45], к чему, по мнению автора, сводится исследование в романе американской морали с точки зрения истории.
Образу Ника уделяли внимание и советские критики. М. О. Мендельсон отмечает динамику взглядов Ника, которого характеризует как честного человека и «демократически чувствующего американца» [46]. А. Н. Горбунов совершенно справедливо считает Ника представителем «потерянного поколения» первой мировой войны, но, к сожалению, не исследует эту линию. Зато А. Н. Горбунов убедительно опровергает тех американских критиков, которые видели в «Гэтсби» своего рода пастораль, утверждение (преимущественно в образе Ника) превосходства патриархального Запада над безнравственным Востоком [47]. Заканчивая анализ характера Ника, Л. Н. Горбунов пишет: «Размышляя о трагедии Гэтсби, повзрослевший «второй герой» романа понимает важность моральной ответственности человека за свои поступки перед самим собою и окружающими его людьми. Именно это и есть итог его духовных поисков» [48]. Важное наблюдение относительно образа Ника принадлежит А. Старцеву. Он пишет: «Роман Фицджеральда также, в известном смысле, можно рассматривать как «роман воспитания». Если брать его в этом аспекте, то в центре книги окажется рассказчик, Ник Каррауэй...» [49]. Кратко проследив динамику характера, критик делает вывод: «Потрясение, пережитое Каррауэем, заставляет его отказаться от нравственных компромиссов, которые он считал до сих пор приемлемыми для себя и в «порядке вещей». Он безрадостно смотрит вперед, не видит какого-либо спасения от царящего в жизни зла и считает своим долгом честно рассказать обо всем, что ему привелось увидеть, не приукрашивая порока и отдавая должное смелости человеческого сердца» [50]. Как видно, в образе Ника Каррауэя обнаруживается не один существенный аспект.
Весной 1922 г., когда начинается действие «Гэтсби», Ник — типичный американский представитель «потерянного поколения». Вот как рассказывает он о себе: «Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека?» (I, 288—289).
Первая мировая война, как известно, положила начало новому периоду мировой истории. Не случайно историки любят говорить, что XX в. начался в 1914 г. Особенно важное значение война 1914—1918 гг. имела для национального сознания американцев. Национальное сознание отражается и выражается прежде всего в художественной литературе, и, говоря о литературе США, В. Л. Паррингтон в своем известном труде совершенно справедливо отмечает: «1919 год ознаменовал собой начало нового периода в истории литературы» [51]. Ту же мысль подчеркивает и С. Куперман, исследователь американского романа о первой мировой войне: «Удар, нанесенный первой мировой войной, был беспрецедентным; он вдребезги разбил культурный мир и в Соединенных Штатах сформировал литературу поколения» [52]. Известно, что империализм США зародился еще в конце прошлого столетия, но лишь в результате мировой войны он занял ведущее место в капиталистическом мире: «Занимавшие почти до конца XIX в. скромное место в мировой политике, США в итоге первой мировой войны выдвинулись на первое место в ряду капиталистических государств» [53]. Общественная мысль США, отстававшая по известным причинам от европейской, в 20-х годах XX в. достигла, наконец, мирового уровня, что и привело к расцвету американской литературы, подспудно готовившемуся на протяжении десятилетий. Понятно поэтому значение образов «потерянных» в романах Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда и других писателей США, отразивших вызванный войною моральный шок.
Сфера морали прежде всего оказывается в центре внимания «потерянных». Их потрясенные войной герои, оправившись от фронтовых испытаний, начинают искать новые ценности. Именно на этом этапе включается в действие романа Ник Каррауэй. О принадлежности его к «потерянному поколению» свидетельствует и многозначительное умолчание. Ник закончил университет в 1915 г. США вступили в войну 16 апреля 1917 г. В рассказе Ника о себе нет ни слова о двухлетием периоде его жизни, потому что этот период не имел для него никакого значения. Также без слов ясно, что в годы от конца войны до переезда на Восток Ник «приходил в себя». К началу действия он уже в состоянии попытаться отыскать свое место в жизни. Тот же временной промежуток объясняет и появление «предыстории» героя в романе. Для Фицджеральда, как уже говорилось, война не оборвала время, но «потерянному» Нику понадобились годы, чтобы в его сознании «связь времен» восстановилась. В 1922 г. ему уже нетрудно сказать: «Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка» (I, 288).
Именно как представитель «потерянного поколения» Ник поглощен прежде всего нравственными проблемами. Собственно с разговора о них и начинает он свой рассказ. «Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды, — говорит он. — Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что... чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере. А теперь, — продолжает Ник,— похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь иод собой разную почву — твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, что-5ы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно» (I, 287—288).
То, что Ник говорит, имеет прямое отношение не только к истории Гэтсби, который тут же впервые упоминается, но и к истории самого рассказчика. Тон Ника немаловажен для понимания его состояния. Здесь не место говорить о функциях многообразной иронии Фицджеральда, но в открывающем роман пассаже Ник ироничен и в отношении самого себя, и в отношении всего «клана» Каррауэев, и в этом косвенно выражается все та же «потерянность». Ирония Ника в данном случае — свидетельство вскрытой войной зыбкости моральных устоев героя и признак нового для него отношения к Среднему Западу, персонифицируемому семейством Каррауэев.
Хотя широкие обобщения намечаются с первых страниц романа, Ник в начале действия исходит из индивидуалистических нравственных принципов. В сущности, его моральная позиция — не больше чем личный «кодекс», норма поведения, также роднящие его с другими «потерянными». Ирония Ника обусловлена послевоенным состоянием мира и его самого, но к собственной морали он относится весьма серьезно. Об этом, между прочим, свидетельствует и следующее его сообщение: «Дурацкие слухи о моей помолвке и были одной из причин, почему я решил уехать на Восток. Нельзя раззнакомиться со старой приятельницей из-за чьих-то досужих языков, но, с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы эти досужие языки довели меня до брачного обряда» (I, 303). Вооруженный своим моральным «кодексом», Ник и приступает к изучению тайн, «известных лишь Мидасу, Моргану и Меценату» (I, 290), а вместе с тем собирается развивать обнаружившиеся еще во время пребывания в университете литературные склонности. Другими словами, он начинает характерные для «потерянных» поиски.
Образ Ника — единственный динамичный образ романа. Он «по определению» и не может быть иным. Изменение взглядов героя, его отношения к миру неразрывно связаны с историей Гэтсби, которую он наблюдает и в которой участвует. Динамика образа Ника раскрывается в самой связи основных сюжетных линий романа. Нравственные правила Каррауэя отнюдь не сразу приводят его к отрицанию денежного общества как аморального. Он не только постигает тайны «Мидаса, Моргана и Мецената», но и видит создаваемую богатством красоту. Отношение его к богатству в начале романа — двойственное. Когда Гэтсби, благодарный за согласие Ника устроить свидание с Дэзи, предлагает ему участие в «конфиденциальном» деле, Ник отказывается не из принципиальных соображений: «Теперь я хорошо понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы всю мою жизнь повернуть по-иному. Но предложение так явно и так бестактно было сделано в благодарность за услугу, что мне оставалось только одно — отказаться» (I, 354). История Гэтсби и Дэзи заставляет Ника занять принципиальную позицию. Отсюда значение параллели отношениям Дэзи и Гэтсби, возникающей в отношениях Ника и Джордан Бейкер.
В связь с Джордан Ник вступает не без колебаний. Останавливают его на первых порах вовсе не моральные принципы. Уже в Нью-Йорке у Ника была кратковременная связь, которую он прекратил без каких бы то ни было душевных терзаний. Ник знакомится с Джордан в доме Бьюкененов, быстро распознает ее бесчестность, но не это его останавливает: «Для меня это ничего не изменило. Бесчестность в женщине — недостаток, который никогда не осуждаешь особенно сурово. Я слегка огорчился, потом перестал об этом думать» (I, 334). Джордан сама делает первый шаг к сближению, но Ник понимает, что может вступить в область серьезных отношений, а он «твердо знал, что прежде всего должен выпутаться из того недоразумения дома» (I, 335). Сдержанность определяет поведение Ника лишь до некоего очень показательного момента. Когда Джордан «сдвигает» их отношения, Ник еще не готов к этому. Почему? Посмотрим, как развиваются события.
Следующий этап определяется, когда Джордан рассказывает Нику о знакомстве и любви Гэтсби и Дэзи. История эта выглядит чистой и романтичной, и сама Джордан на мгновение как бы утрачивает свой всепоглощающий эгоизм: «А Дэзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни, — вполголоса сказала Джордан» (I, 351). Ника и Джордан объединяет общее стремление содействовать любви Гэтсби и Дэзи. Смутное чувство к Джордан, вызревавшее на протяжении нескольких недель, вдруг проясняется, хотя настоящая любовь остается всего лишь проблематичной возможностью. Как бы то ни было, Ник явно идет на моральную уступку. Не случайно о «том недоразумении дома» больше не говорится ни слова. Именно так объясняется тон и все оформление следующего признания Ника: «У меня, не в пример Гэтсби и Тому Бьюкенену, не было женщины, чей бестелесный образ реял бы передо мной среди темных карнизов и слепящих огней рекламы, поэтому я крепче сжал в объятиях ту, что сидела рядом. Бледный презрительный рот улыбнулся мне, и, сжимая ее все сильней, я потянулся к ее губам» (I, 352).
Вступая в связь с Джордан, Ник идет на уступку обществу Бьюкененов, их морали, которую, как ему известно, Джордан разделяет. Точно так же он мог бы принять предложение Гэтсби, не испугавшись и самого Вулфшима, если бы Гэтсби предложил сотрудничество «в других обстоятельствах». В сущности, связь Ника и Джордан — не более, чем «сердечный» вариант занятий кредитным делом. И то, и другое должно либо составить содержание жизни героя, либо прекратиться. Когда Ник делает, наконец, выбор, за уступку приходится расплачиваться.
Трагедия Гэтсби освещает все нравственные аспекты личных отношений в романе безжалостно ярким светом, и Ник не может больше колебаться: «После смерти Гэтсби... все вдруг представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в силах был коррегировать. И когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих, ломких листьев и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой, на Запад» (I, 432). В этот момент наступает конец не только попыткам проникнуть в пресловутые финансовые тайны, но и отношениям с Джордан. Сама лексика повествования обретает великолепную выразительность, не оставляя никаких сомнений ни в «расстановке сил», ни в позиции героя. Вот последнее в романе упоминание о Томе и Дэзи вместе: «Они были беспечными существами, Том и Дэзи, они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними» (I, 434). Рассказ о разрыве с Джордан начинается так: «Оставалось только выполнить одно дело, неприятное, тягостное дело, за которое лучше было, пожалуй, и не браться. Но мне хотелось привести все в порядок перед отъездом, а не полагаться на то, что равнодушное море услужливо смоет оставленный мною мусор» (I, 432). Ник, в отличие от Тома и Дэзи, сам «убирает за собой», но он прекрасно понимает, что в отношениях с Джордан нравственная его позиция в высшей степени уязвима, поскольку, вступая в связь, он брал на себя определенные моральные обязательства, которые теперь нарушает. Ясно это и Джордан. Когда она упрекает его в беспечности, он говорит: «Мне тридцать лет... Я пять лет как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью» (I, 433).
Воспитание чувств завершается. Бесчестность но отношению к Джордан оказывается необходимой и неизбежной, ибо Ник должен быть честен перед самим собой. Это в личном плане, а в социальном — разрыв с Джордан означает отрицание общества, построенного на ложных принципах и фальшивой морали. Красота, связанная с деньгами, окончательно предстает как «вездесущая, вульгарная и мишурная», но главные выводы все еще впереди.
Накануне отъезда Ник в последний раз приходит на виллу Гэтсби: «Какой-то мальчишка нацарапал обломком кирпича непристойное слово на белых ступенях, и оно четко выделялось при свете луны. Я затер его, шаркая подошвой о камень. Потом я спустился к берегу и прилег на песке» (I, 435). Ник выполняет последний долг перед Гэтсби, вновь, в заключении романа, акцентируя постулированное вначале величие трагического героя. Но здесь речь не о Гэтсби, а о Нике, и его жест — последнее, уже почти символическое доказательство того, что в конфликте Гэтсби с миром Бьюкененов сам Ник до конца остается на стороне Гэтсби. За конкретным действием идут на последней странице романа многократно цитировавшиеся критиками размышления Ника. Они настолько важны для понимания его образа и всего романа, что их необходимо привести: «...по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков — нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал,— ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатным газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку — и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки... И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое» (I, 435—436).
В мыслях Ника закономерно возникает не только американская, но мировая тема, тема всего человечества. Она, конечно, также окрашена тональностью, выдающей «потерянного» героя. Мы уже убедились в «американизме» Гэтсби. Ник тоже типичный американец, но в последних словах произведения этот момент, совершенно очевидно, занимает подчиненное место. Значительно важнее, что у Ника обнаруживается общее с «потерянными» других стран. В образе Гэтсби отражен крах «американской мечты», неизбежное в исторической перспективе выхолащивание идеала, который не мог выдержать испытания временем. В истории Гэтсби принципиальная общность социальных условий Старого и Нового Света выступает как бы объективированно. Сам Гэтсби не мог осмыслить исторический процесс, не мог выйти за рамки «американского» мышления. А Ник может. Он осуждает Америку 20-х годов, понимая то, чего Гэтсби не было дано понять. В мыслях своих Ник выходит за пределы собственно американской истории. Крушение «американского идеала» предстает как национальное проявление нравственной несостоятельности всего капиталистического общества в XX в.
В процитированных последних абзацах романа конкретно-событийное и философское, социально-историческое начала сливаются воедино. От мыслей о Гэтсби Ник переходит к показательному «мы». Конечная позиция героя очень напоминает характерный для «потерянных» «трагический стоицизм». А. Старцев совершенно верно пишет, что Ник «безрадостно смотрит вперед». Значит ли это, что в образе Ника воплощен вселенский пессимизм? Ответ, нам кажется, должен быть отрицательным. И не только потому, что, как справедливо указывает тот же критик, Ник «считает своим долгом честно рассказать обо всем, что ему привелось увидеть, не приукрашивая порока и отдавая должное смелости человеческого сердца». Мировое зло, осуждаемое Ником, имеет вполне конкретное социальное обличье. Заключающие роман размышления героя в самой своей лирической тональности содержат большой заряд гуманизма, боли за человека и его мечту, но в произведении есть и прямое указание на то, что время для Ника не останавливается.
Как мы видели, роман начинается и заканчивается исключительно важными раздумьями повествователя. Завершая вводную часть, в которой уже концентрируется — только в зародышевой форме — основное раскрывающееся в дальнейшем содержание, Ник говорит: «Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты,— вот что заставило меня на время (разрядка моя.— Ю. Л.) утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах» (I, 288). Сходство тональности и содержания этого пассажа с последними словами романа очевидно. И здесь конкретное звучит рядом с общим, но есть и существенное «на время» («temporarily»), свидетельствующее о том, что сам Ник не «закрывает» перспективу окончательно. В первой половине 20-х годов Фицджеральд не мог иначе представить своего героя, не выходя за рамки критического реализма.
Характеры всех основных персонажей романа, кроме характера Ника, не развиваются, а только раскрываются в действии, что отнюдь не делает их простыми. Это полностью относится и к образу Тома Бьюкенена. Том — основной антагонист Гэтсби, но, пожалуй, уместнее говорить не о контрастности этих фигур, хотя и элемент контраста достаточно очевиден, а именно о конфликте между ними. М. Бьюли тонко замечает: «Том Бьюкенен и Гэтсби представляют антагонистические, но исторически связанные аспекты Америки. Они связаны, как тело и душа, когда стена смерти поднимается между ними» [54]. Действительно, мы видели, что в идеале Гэтсби, в самой его мечте исторически заложено порочное начало. Прав, конечно, Э. Фассел, утверждающий: «Нереальные ценности мира Тома и Дэзи Бьюкененов в значительной мере являются также ценностями Гэтсби, присущими его мечте» [55]. Так определяется непростая связь образов Гэтсби и Тома Бьюкенена. Сложности, связанные с образом Тома и раскрытием его в романе, подчас приводят к неправильной расстановке акцентов в критических работах.
Отмечая особенности раскрытия характера Тома, А. Н. Горбунов пишет: «Автор сразу же прямо осуждает его» [56]. Это совершенно справедливо. Недвусмысленная характеристика Тома содержится уже в первой главе и в дальнейшем не столько открывается новыми сторонами, сколько вполне последовательно подтверждается. Скорей всего, кажущаяся простота этого образа побудила А. Н. Горбунова написать: «В его портрете доминирует одна черта — полное сокрушительной силы жестокое тело». Эта сокрушительная физическая сила в соединении с огромным состоянием рождает в Томе уверенность, что ему «все дозволено», чувствующуюся во всех его поступках и высказываниях» [57]. Это верно, но едва ли можно согласиться с заключающим характеристику Тома утверждением критика: «...Том как бы вобрал в себя характернейшие черты той части молодых людей «потерянного поколения», нигилизм которых постепенно вел к политической реакции, смыкался с фашизмом. Чутье художника помогло Фицджеральду создать в лице Тома психологически убедительный тип человека подобного рода задолго до того, как взгляды этой части «потерянного поколения» окончательно сформировались, приняв характер продуманной политической программы» [58].
Том, нам кажется, принадлежит к «потерянному поколению» не больше, чем сам Гэтсби. Даже меньше, ибо его нельзя отнести не только к «потерянным» первой мировой войны, но и к «потерянным» истории США. В романе нет и намека на участие Тома в войне. Напротив, всячески подчеркивается, что фронтовые испытания обошли его. Так, когда Дэзи говорит Нику, что он не был на ее свадьбе, Ник отвечает: «Я тогда еще не вернулся с войны» (I, 300). Дэзи вышла за Тома в июне 1918 г., когда и Гэтсби еще не успел демобилизоваться. Словом, текст романа не дает никаких оснований предполагать, что Том вообще служил в армии. Едва ли можно говорить о его нигилизме или о том, что он принадлежит к числу тех «потерянных», которые, не побывав на фронте, стали «косвенными» жертвами войны. Более того, Том антагонистичен «потерянным», как он антагонистичен Гэтсби.
Вот как Ник представляет Тома читателю: «Том, наделенный множеством физических совершенств — нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, — был фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты,— уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания,— и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей» (I, 291).
Фицджеральд точно выделяет едва ли не главную черту Тома, рассказывая о социальной основе формирования такого характера. При всем богатстве (к приобретению которого, впрочем, Том отношения не имеет), всей физической силе и самоуверенности, Том прежде всего инфантилен. Он достиг возможных для него вершин развития личности к двадцати одному году, но что это за вершина! «...Том, казалось мне,— говорит Ник,— будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста» (I, 292). Где уж тут говорить об остроте чувств «потерянных», вернувшихся из окопов. Противопоставление очевидно, и, нам кажется, можно утверждать, что Фицджеральд первый в литературе СШA создал психологически достоверный, специфически американский тип инфантильного богача, которому так и не суждено стать действительно взрослым.
Инфантильность эту порождает, конечно, «баснословное богатство», которое — особенно в условиях Америки — отделяет человека от жизни непроницаемым барьером. Деньги стоят между Томом и той подлинной жизнью, которая только и могла сформировать «потерянное поколение». Университетское образование тут значения не имеет, и взгляды Тома, вычитанные из книг, а не почерпнутые из жизни, отмечены инфантильной поверхностностью. Даже чужие мысли он не может изложить грамотно, что, казалось бы, обязательно для образованного человека. Он говорит скорее, как малограмотный спортсмен, впервые в жизни открывший книгу и пораженный «умными» рассуждениями автора: «Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея: если мы не будем настороже, белая раса... ну, словом, се поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано» (I, 297). Добавим, что речь Тома засорена пошлыми штампами.
Деньги являются той единственной почвой, на которой только и может удерживаться Том Бьюкенен. Из этой почвы вырастает то, что сам он считает моралью, и что на деле оказывается ее уродливым извращением. Отсюда его дикие «нормы» личного поведения и во многом отсюда же не менее дикие социальные взгляды. В романе есть важный микроэпизод. При первой же встрече Ника с Томом и Дэзи выясняется, между прочим, что Том ушиб палец жены. Дэзи называет мужа дылдой. «Терпеть не могу это слово,— сердито перебил ее Том. — Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой». «Дылда!» упрямо повторила Дэзи» (I, 296— 297). Том терпит. Во второй главе, начинающейся, кстати сказать, описанием Долины Шлака, находим красноречивую параллель этому эпизоду. Том запрещает любовнице произносить имя Дэзи. Миртл упорствует, и тогда — «Том сделал короткое, точно рассчитанное движение, и ребром ладони разбил ей нос» (I, 316). Эта «защита чести» жены — проявление уродливой «морали» Тома. Ведь к этому моменту уже выяснилось, что он обманывает и Дэзи, и Миртл.
Аналогичный образ и тоже в противопоставлении «потерянному поколению» почти одновременно с Фицджеральдом создал Хемингуэй, и это косвенно показывает социальное значение подобного характера для послевоенной Америки. Хемингуэй начал «Фиесту» в июле и закончил первый вариант романа в сентябре 1925 г., а «Великий Гэтсби» вышел из печати еще в апреле того же года, но, конечно, оба писателя работали независимо друг от друга и преследовали далеко не одинаковые художественные цели. Тем не менее определенное сходство хемингуэевского Роберта Кона с Томом Бьюкененом Фицджеральда буквально бросается в глаза. Характер Кона — тоже результат американского стерильно-книжного воспитания. Подобно Тому, Кон очень силен физически. Кои тоже спортсмен, и для него титул университетского чемпиона по боксу значит не меньше, чем для Тома «подвиги» на футбольном поле. Кон тоже вычитывает свои идеи из книг, только это другие книги, и здесь-то проявляется главное отличие Кона от Бьюкенена. Фицджеральд уже в 1924 г. придает образу персонажа существенную социально-политическую заостренность. Хемингуэй придет к этому лишь десять лет спустя.
Инфантильность богатого молодого человека — черта социально опасная. И. Кашкин тонко подметил, что Кон чем-то напоминает Пайла из «Тихого американца» Г. Грина [59]. Том у Фицджеральда много опаснее Кона. Опаснее именно потому, что сочетает воинствующий эгоизм с инфантильностью и характерными для США реакционнейшими расистскими взглядами. Том, как справедливо отметил А. Н. Горбунов, в сущности, ранний представитель американского фашизма, и заслуга Фицджеральда, между прочим, состоит в том, что он постулирует обусловленность подобного характера большими деньгами. Писатель рисует личность Тома резко критически, показывает его нравственную несостоятельность и тем самым развенчивает и его социально-политическую позицию. Развенчание расистских взглядов Тома не становится в романе менее убедительным из-за того, что дается как бы косвенно. «Личностный» и социально-политический аспекты этого характера переплетены столь тесно, что не воспринимаются в отдельности. В этом отношении особенно важна сцена решительного объяснения: «Владеть собой? — вскинулся Том. — Это что, новая мода — молча любоваться, как мистер Невесть Кто, Невесть Откуда амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел... Хороши пошли порядки! Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком, и да здравствуют браки между белыми и неграми». Распалясь собственной рацеей, он уже чувствовал себя одиноким бойцом на последней баррикаде цивилизации» (I, 393). В этой сцене Том-инфантильный богач, Том-расист и Том-ханжа сливаются воедино. Всесторонняя абсурдность позиции Тома тут же подчеркивается сначала репликой Джордан («Здесь, кажется, все — белые»), а затем и комментарием Ника: «Как я ни был зол — все мы были злы,— меня невольно разбирал смех при каждом новом выпаде Тома. Уж очень разительно было его превращение из распутника в моралиста». Отметим также, что инфантильному сознанию Тома ложность его положения совершенно не доступна.
Когда от «априорного» представления Тома писатель переходит к его портрету «во весь рост», зримо вырисовываются и дополнительные важные черты характера Бьюкенена: «Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могучим икрам тесно в глянцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы,— жестокое тело» (I, 292).
Весь облик Тома имеет «телесный» характер, подчеркнуто лишенный духовности. Слово «тело», не везде переданное в переводе, доминирует в его портрете. Показателен и «ком мускулов» («pack of muscle»), и выражение глаз — «будто он с угрозой подается вперед». Конечный вывод — обездухотворенное «жестокое тело» — как бы исчерпывает Тома целиком. Жестокость — та черта этого характера, которая не случайно прослеживается на протяжении всего романа. Том жесток постоянно, во всех проявлениях, по отношению ко всем окружающим. Его «плотскость» и жестокость — основа противопоставления его мечтателю Гэтсби. Это эгоистическая жестокость, и только деньги открывают все возможности для ее проявления. Но Фицджеральд в раскрытии этого образа идет дальше. Именно в связи с характером Тома понятие красоты переосмысливается, утрачивая все связи с богатством. Казалось бы, сила, спортивность Тома должны сообщить ему хотя бы грацию движений, физическую красоту, но и намека на это нет ни в одном его действии, ни даже в отдельной детали внешности. Том, если можно так сказать, всесторонне и абсолютно некрасив. Это отчетливо проявляется и при подчеркивании его «жестокой телесности», даже когда эта «телесность» как бы исчезает, лишая «тело» точки опоры. Вот Том узнал, что может одновременно лишиться и жены, и любовницы: «Нет смятения более опустошительного, — рассказывает Ник, — чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники» (I, 389). Неприятная, некрасивая самоуверенность сменяется столь же некрасивым страхом: «По дороге он то и дело оглядывался, чтобы посмотреть, едут ли они следом, и, если им случалось застрять среди потока машин, он сбавлял скорость и ждал, когда «фордик» покажется снова. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду — и из его жизни» (I, 389—390). Если до «Великого Гэтсби» богатые были у Фицджеральда не только обреченными, но и красивыми, то, начиная с этого замечательного романа, двойственное отношение писателя к красоте претерпевает радикальное изменение, о чем прежде всего свидетельствует образ Тома Бьюкенена.
Раскрытие характера Тома, как, впрочем, и всей сложной тематики произведения, завершается в последней главе. Здесь выясняется, что эта инфантильная личность органически не может измениться. В самом деле, Том едва не лишился жены. Тяжело, насколько возможно для «неглубокой души», пережил смерть Миртл. Он стал соучастником убийства. Словом, прошел целый ряд достаточно серьезных событий, чтобы характер его претерпел хотя бы некоторые изменения. Но он до конца остается тем же. Когда-то, накануне женитьбы он преподнес Дэзи невероятно дорогое жемчужное колье. В конце романа Ник встречает Тома у витрины ювелирного магазина и сначала отказывается пожать его руку. Но вот краткая встреча подошла к концу: «На прощанье я пожал ему руку; мне вдруг показалось глупым упорствовать, у меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. И он отправился в ювелирный магазин, покупать жемчужное колье — а быть может, всего лишь пару запонок,— избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциала» (I, 434).
Здесь все выражено наглядно. Инфантильность Тома («ребенок»), красноречивый намек на очередную любовную историю — все свидетельствует, что Тому не суждено измениться. Выше говорилось о роли «баснословного богатства» в формировании подобного характера. Эта тема также проходит через весь роман, звучит и в сцене последней встречи Ника с Томом. Только что выраженная прямо («Они были беспечными существами, Том и Дэзи, они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги» — I, с. 434), она возникает и в процитированных строчках: Том с одинаковой легкостью может позволить себе купить и жемчужное ожерелье, и пару запонок. Обличение мира богатых весьма многообразно в романе, но в образе Тома Бьюкенена оно достигает особенной силы.
*
Очень интересны женские образы романа, хотя критика неизменно уделяет даже основным из них много меньше внимания, чем образам Гэтсби, Ника и Тома. Это, вероятно, объясняется тем, что женские характеры, имеющие немаловажное самостоятельное значение, все же в значительной мере оказываются дополняющими и оттеняющими мужские, а в результате функция их в общей организации произведения ограничивается, становится отчасти вспомогательной. Тем не менее, анализ образов Дэзи, Джордан и в меньшей мере Миртл представляется необходимым не только для более полного выявления идейной направленности «Великого Гэтсби».
Критики, как правило, отмечают большое сходство Дэзи с героинями предшествующих романов Фицджеральда. На этом моменте специально останавливается А. Н. Горбунов, подчеркивающий, кроме того, что Розалинда, Глория и Дэзи «в той или иной мере воплощают собой один тип прекрасной и холодной женщины...» [60]. Такое утверждение едва ли можно оспаривать, но важнее в данном случае, по-видимому, отличие Дэзи, если ограничиться одним примером, от се предшественниц. Отличие это проявляется двояко: во-первых, характер Дэзи имеет гораздо более четкие социальные контуры и получает по-разному выраженную, но более резкую и недвусмысленную этическую оценку. Это уже предпосылки дальнейшего социального заострения женского образа в творчестве писателя.
Во-вторых, в обрисовке женских образов «Гэтсби» сказалось неизмеримо выросшее мастерство писателя. Это особенно заметно в связи с параллелизмом образов Дэзи и Джордан Бейкер. Такой параллелизм позволяет уже при рассмотрении образа Дэзи выяснить некоторые существенные черты образа Джордан.
В работах американских критиков, занимавшихся интересующей нас проблемой, выделяются такие, весьма важные суждения. «Дэзи Бьюкенен существует в романе, — пишет М. Бьюли,— на двух хорошо определенных уровнях. Она есть то, что она есть, но она также существует на уровне представления о ней Гэтсби. Из всех серьезных романистов ничей интеллект так последовательно не принижался, как интеллект Фицджеральда, и едва ли удивительно, что ни один критик так и не воздал Фицджеральду должного за его великолепное понимание жестокой пустоты Дэзи» [61]. Это справедливое суждение высказано еще в 1954 г. Значительно позже весьма сходную позицию занимает К. Эбл: «Из реальности Дэзи превращается в идею, существующую в уме Гэтсби, и, в конце концов, в своего рода абстрактную красоту, коррумпированную и коррумпирующую, когда она принимает материальную форму» [62]. М. Каули точно определяет сущность Дэзи, называя ее «воплощенным духом богатства» [63].
Действительно, если говорить о Дэзи, о том, как она проявляет себя в развитии, что собой представляет, начинать приходится с богатства, денег, обусловивших ее характер больше, чем любые другие факторы, то есть в той же мере, в какой они обусловили характер Тома. «Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дэзи Фэй, — рассказывает Джордан Нику. — Ей тогда было восемнадцать, на два года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры из Кэмп-Тэйлор взволнованно домогались чести провести с нею вечер» (I, 347). Есть в романе исключительно содержательная сцена, предшествующая эпизоду решительного объяснения Гэтсби и Тома. Эти несколько строк, начинающиеся репликой Ника, не случайно часто приводятся критиками.
«— У Дэзи нескромный голос, — заметил я. — В нем звенит...— Я запнулся.
— В нем звенят деньги,— неожиданно сказал он.
Ну конечно же. Как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе — вот что так пленяло в его бесконечных переливах, звон металла, победная песнь кимвал... Во дворце высоком, беломраморном, королевна, дева золотая...» (I, 385).
Сначала кажется удивительным, что именно Гэтсби принадлежит ключевая реплика процитированного отрывка. Мог ли этот мечтатель, опередив Ника, точно указать определяющую ноту голоса Дэзи? Ведь Ник с присущей ему манерой все подвергать нравственному суду и оценке (не будем забывать, что он принадлежит к «потерянному поколению»), в отличие от Гэтсби, обеими ногами стоит на земле. На деле в этом нет ничего удивительного. Гэтсби пришлось пройти очень большой путь, чтобы добиться, наконец, объяснения с Томом, и на этом пути он, родившийся нищим, превосходно научился различать звон денег, где бы «золотой» звук ни слышался. Иначе с Ником. Хоть он и ограничен в средствах, но принадлежит к «почтенному зажиточному семейству». Он — представитель «клана», его отец в состоянии финансировать его. Словом, для него деньги никак не могут значить то же, что для Гэтсби.
Приведенные примеры — далеко не единственные в романе. В повествовании обнаруживается целая цепочка косвенных свидетельств. Они есть и в рассказе Джордан о свадьбе Дэзи, и в сцене первого появления Ника в доме Бьюкененов, и даже в настойчивом стремлении Гэтсби не просто отвоевать у Тома возлюбленную, но и увезти ее «на законном основании» непременно из дома ее родителей. Последний момент имеет двоякое значение. С одной стороны, и это важнее, Гэтсби необходимо победить время, возвратиться в прошлое. С другой же, здесь сказывается незабываемое и вполне реальное впечатление, оставшееся у Гэтсби с той поры, когда он стал любовником Дэзи. Только в предпоследней главе романа, когда мы узнаем об упомянутых впечатлениях героя, прямо и настойчиво подчеркивается богатство Дэзи. К этому времени ее предательство уже не оставляет сомнений. Так богатство Дэзи связывается в романе с ее этической несостоятельностью. Как социальная основа характера и поведения богатство Дэзи получает надлежащий акцент не столько даже в упоминавшихся косвенных свидетельствах, сколько в факте прочнейшей связи, которая существует между героиней и ее супругом. Тому, как видно, например, из эпизодов с Миртл, никогда бы и в голову не пришло жениться на небогатой девушке, но суть дела более в том, что при всех изменах мужа, при всех расхождениях в семье, в решающие моменты Бьюкенены выступают вместе, на них лежит печать общности (одного поля ягоды), и основа этой общности — социальная: деньги и то, что они обеспечивают.
Том, никогда, конечно, не интересовавшийся происхождением собственного капитала, просто отказывается считать Гэтсби серьезным соперником, когда узнает об источниках его богатства. Основные социальные условности, которые столь важны для Тома, оказываются не менее важными и для Дэзи. В сущности выбор Дэзи предопределен, потому что она и Том вместе полностью принадлежат тому миру, в котором Гэтсби навсегда остался бы чужим. Конечно, образ Дэзи блистательно индивидуализирован. Она воспринимается как реальный человек с собственными манерами, привычками, интонациями и так далее, но в определяющих социальных основах прежде всего сказываются не частные, отдельные черты личности, а принципиальная общность, которой и отмечены образы Дэзи и Тома.
Вовсе но отрицая самостоятельности образа Дэзи, заметим, что, поскольку речь идет о социальных основах, он в значительной мере раскрывается через связи с образами других действующих лиц. Общность Дэзи и Тома достаточно ясно выражена непосредственно в эпизодах решительного объяснения, мирной беседы по возвращении супругов домой и некоторых других, а кроме того, и Ник делает относительно этого неоспоримый вывод, объединяя Дэзи и Тома, говоря о них обоих «в едином дыхании». Но раскрывается характер Дэзи, достигается объемность, трехмерность ее образа в значительной мерс и через посредство другой «парной» связи. Определенной существенной общностью отмечены не только взятые в совокупности характеры Дэзи и Тома, но и Дэзи и Джордан.
Когда Ник впервые входит в гостиную Бьюкененов, продуваемую ласковым ветерком, взору его открывается следующая картина: «Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому» (I, 293). Объединенные в первом зрительном впечатлении Ника, Дэзи и Джордан при всех их индивидуальных различиях оказываются принципиально родственными, сходными характерами. И в мелочах, и в серьезных вещах Дэзн и Джордан то и дело обнаруживают все ту же общность, выступая в повествовании вместе, а индивидуальные различия героинь как бы «перекрываются» тем, что их объединяет. Вот пример: «Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их (здесь и дальше курсив мой.— Ю. Л.) насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом...» (I, 297). Подчас Дэзи и Джордан даже напоминают одинаково одетых близнецов: «Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дэзи и Джордан в маленьких парчовых шапочках, с легкими накидками на руке» (I, 385).
Постулированная с самого начала и проходящая через весь роман тема общности Дэзи и Джордан разрабатывается и в сфере существеннейших нравственных категорий. Принципиально характерной для обеих женщин оказывается лживость и беспечность. Ник прямо говорит об этом и приводит убедительные примеры. Несомненные связи Дэзи и Тома и Дэзи и Джордан имеют, как упоминалось, «парный» характер, но Дэзи выступает в роли общего члена обеих пар. Так «парная» связь расширяется, и отдельные пары превращаются в социально и этически обусловленную группу, что также находит совершенно явное отражение в повествовании Ника и развитии объективного действия. Отношения Гэтсби и Дэзи, как выясняется, просто не могли закончиться счастливо для героя. Ник, руководствуясь этическими соображениями, открыто принимает сторону Гэтсби. На языке художественного произведения это означает, что и его отношения с Джордан — своеобразная параллель отношениям Гэтсби и Дэзи,— обречены.
Особую область, очень важную для правильной оценки образа Дэзи, составляют ее отношения с Гэтсби. Здесь также имеется «парная» связь, но отмеченная совсем другим качеством. Если общность Джордан и Тома во многом выявляется «через» Дэзи, то ни о какой общности Гэтсби с Томом, Джордан или самой Дэзи и речи быть не может. На первый взгляд может показаться, что Дэзи серьезно колеблется в выборе между Томом и Гэтсби, но достаточно внимательно вчитаться в роман, как становится ясно, что выбор героини предрешен с самого начала, более того — был предопределен задолго до начала непосредственного действия, а значит и колебания Дэзи были скорее проявлением «человеческой слабости» (к тому же в результате ошибочного впечатления), чем свидетельством реальной угрозы единству семьи Бьюкененов. Особенно недвусмысленно об этом говорят некоторые крайне важные эпизоды романа.
Мы уже отмечали, что в решающие моменты Дэзи по самой логике вещей неизменно оказывается не с Гэтсби, а с Томом. Гэтсби в глазах Тома — всего лишь жулик. Разумеется, от Тома не приходится требовать, чтобы он понял всю сложность этого характера. Но ведь и Дэзи не в состоянии понять человека, занимающего (до поры, до времени) такое большое место в ее сердце. Там, где ее общность с Томом становится крепче, чем когда-либо, обретает завершенный вид, в отношениях с Гэтсби наступает столь же окончательный разрыв.
В рассказе Джордан о свадьбе Дэзи и Тома просматривается кардинальное различие между бесконечно высоким чувством Гэтсби, и симптоматично ограниченным, эгоистичным чувством героини. Еще отчетливее обреченность связи Дэзи с Гэтсби видна в сцене решительного объяснения. Из предшествующего мы знаем, чего добивается Гэтсби: «Ему хотелось, чтобы Дэзи ни больше, ни меньше, как пришла к Тому и сказала: «Я тебя не люблю и никогда не любила». А уж после того, как она перечеркнет этой фразой четыре последних года, можно будет перейти к более практическим делам» (I, 377). Для Гэтсби это необыкновенно важно, потому что уж в этом-то вопросе возлюбленная обязательно должна соответствовать тому уровню, на котором она находится в его сознании. Иначе выяснится расхождение мечты и реальности, обнаружится разница между его любовью и ее, а наличие подобного расхождения или разницы Гэтсби допустить не может, так как в противном случае он должен был бы признать несостоятельность своей мечты. В одно мгновенье рухнуло бы столь долго и тщательно возводимое им строение. Вот Гэтсби и готов допустить, что Дэзи сделала ошибку, но заявление «я тебя не люблю и никогда не любила» становится важнейшим моментом ее исправления.
Когда приходит время объяснения, Дэзи в испуге пытается не допустить его, и Гэтсби самому приходится сказать то, что должна была сказать его возлюбленная: «Ваша жена вас не любит,— сказал Гэтсби.— Она вас никогда не любила. Она любит меня» (I, 394). И дальше Гэтсби все время настаивает на этом «никогда». Наконец, следует долгожданная реплика героини: «Я никогда его не любила,— сказала она, явно через силу» (I, 395). Весьма показательно не только то, что Дэзи говорит «явно через силу», но и то, что она не обращается прямо к Тому. Впрочем, так или иначе слово сказано. Вот тут-то и происходит фатальное событие. Тому не составляет большого труда доказать, что это неправда: «— Ох, ты слишком многого хочешь! — вырвалось у нее.— Я люблю тебя теперь — разве этого не довольно? Прошлого я не могу изменить.— Она заплакала.— Было время, когда я любила его,— но тебя я тоже любила.
Гэтсби широко раскрыл глаза — потом закрыл совсем.
— Меня ты тоже любила — повторил он» (I, 395 — 396). Катастрофа свершилась. Жалкая правда Дэзи все-таки правда, и Гэтсби уже не может не видеть отличия собственной любви от ущербного чувства Дэзи.
А. Старцев делает, между прочим, очень верное наблюдение: «Лирическая насыщенность прозы Фицджеральда в «Великом Гэтсби» временами приближается к лирической насыщенности стиха Не только малейшее душевное движение, но и каждый физический жест получает интенсивную эмоциональную характеристику» [64]. Эта эмоциональная характеристика не всегда легко поддается расшифровке, так как и сами эмоции не всегда предстают «в чистом виде», а чаще оказываются сложными, «противящимися» попыткам упростить их и обозначить словом-ярлыком. В таких случаях невольно вспоминается тютчевское «мысль изреченная есть ложь». Эмоциональная насыщенность и интенсивность придают сцене особенную красоту, в ней как бы непосредственно ощущается биение жизни. Это относится, например, к прекрасной, исполненной психологического подтекста сцене с рубашками Гэтсби. В ней истинный характер колебаний Дэзи находит выражение, удивительное по художественному совершенству и эмоциональной насыщенности. Попробуем кратко рассмотреть эту сцену, не вдаваясь в анализ всех оттенков взаимосвязанных эмоций героя и героини романа.
Встретившись, наконец, с Дэзи и показывая ей свой дом, Гэтсби вдруг распахивает дверцы платяных шкафов. Среди прочих предметов одежды «высились штабеля уложенных дюжинами сорочек» (I, 362). Казалось бы, раскрытые шкафы позволяют и Дэзи, и Нику увидеть все, что Гэтсби хочется показать. Но хозяину дома этого мало: «Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой; сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертывались на лету, заваливая стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться — сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шелком. У Дэзи вдруг вырвался сдавленный стон, и, уронив голову на сорочки, она разрыдалась. «Такие красивые сорочки,— плакала она, и мягкие складки ткани глушили ее голос.— Мне так грустно, ведь я никогда... никогда не видала таких красивых сорочек» (I, 362).
Только что преодолена неловкость первой встречи после длительной разлуки. Гэтсби кажется, что он достиг желаемого, победил время. Его захлестывает отчаянная радость, он испытывает невероятное облегчение, он уже себя не помнит, и вот появляются сорочки — наглядное воплощение его богатства, состоятельности, того, что дает, как ему кажется, бесспорные права на любимую. Здесь важно, что сорочек так много, что они такие красивые, многоцветные. Нельзя ведь швырять перед возлюбленной костюмы, пальто или халаты: и краски не такие яркие, да и красоты в такой куче никакой не было бы. Сорочки же — иное дело, и Гэтсби уже вовсе не замечает, что его жест избыточен.
Присущ ли его действиям оттенок пошлости? Может быть, в какой-то мере. Но основное чувство, которое в этой сцене вызывает герой романа, как ни странно, жалость. Щемящая жалость к Гэтсби не случайно охватывает читателя. Забегая несколько вперед, скажем, что в анализируемом произведении ни одно слово, ни одна самая мелкая деталь не существует «просто так», но находят продолжение в развитии действия, усиливая тем самым свое звучание и, чаще всего, выявляют полное значение в одном из важных эпизодов, исполненных глубокого смысла. Здесь нет нужды говорить о том, как в творчестве Фицджеральда, предшествующем «Великому Гэтсби», материальное положение действующего лица почти неизменно показывается «через» одежду; это легко понять, поскольку именно в одежде (потрепанные обшлага и тому подобное) нужда проявляется наглядно и психологическое состояние бедного (обедневшего) человека во многом определяется тем, что он не в силах забыть, особенно при встречах с богатыми знакомыми, о недостатках своего костюма.
Первое в произведении упоминание одежды как мерила социального положения и человеческих качеств личности, кажется, вовсе не имеет отношения к Гэтсби. Миртл говорит о своем браке: «Вот когда я действительно с ума спятила, это когда вышла за него замуж. Но я сразу поняла свою ошибку. Он взял у приятеля костюм, чтобы надеть на свадьбу, а мне про это и не заикнулся» (I, 315). В следующий раз внимание читателей подчеркнуто привлекается к одежде в эпизоде, уже связанном с Гэтсби. Случайная гостья героя рассказывает случайным же слушателям о том, как Гэтсби прислал ей дорогое платье взамен порванного. Хотя гости Гэтсби находят собственные объяснения необычному поступку хозяина, нельзя исключить и того, что Гэтсби мог послать новое платье, потому что знал, какое значение подчас имеет наряд, на который к тому же не всегда легко наскрести деньги. Только после этого эпизода в романе появляется сцена с рубашками, но она имеет и продолжение, вполне закономерное, если учесть, что образ Гэтсби раскрывается в рассказе Ника постепенно, причем новые сведения, получаемые читателем, заставляют его по-новому же оценивать уже известное.
Встреча Дэзи и Гэтсби после разлуки описана в пятой главе. Вслед за этим (в начале следующей главы) мы узнаем часть подлинной истории героя. И здесь, на наш взгляд, не случайно подчеркиваются подробности, связанные с костюмом: «Джеймсом Гетцем вышел он в этот день на берег в зеленой рваной фуфайке и парусиновых штанах, но уже Джеем Гэтсби бросился в лодку, догреб до «Туоломея» и предупредил Дэна Коди, что через полчаса поднимется ветер, который может сорвать яхту с якоря и разнести ее в щепки» (I, 366 — 367); на следующей же странице читаем, что спустя несколько дней Коди свез Гэтсби в Дулут, «где купил ему синюю куртку, шесть пар белых полотняных брюк и фуражку яхтсмена». Вновь костюм оказывается признаком социального положения человека. Когда же (в восьмой главе) истинная история Гэтсби досказывается до конца, тема костюма вновь многозначительно и неоднократно подчеркивается. Сначала речь идет о том, что Гэтсби удалось сблизиться с Дэзи только потому, что на нем был «военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой» (I, 408); причем Гэтсби отлично понимал, какую роль играет этот мундир, который, как тут же сказано, «в любую минуту мог свалиться с его плеч». Затем, на следующей странице, в рассказе о встрече через два дня: «С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много — а под ней была Дэзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая — бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков».
Наконец, уже в последней главе романа об одежде говорит Вулфшим, рассказывая Нику о знакомстве с Гэтсби: «— Помню, каким он был, когда мы с ним встретились впервые,— заговорил он усевшись.— Молодой майор, только что из армии, весь в медалях, полученных на фронте. И ни гроша в кармане — он все еще ходил в военной форме, так как ему не на что было купить штатский костюм» (1, 427). Некоторые обертоны темы, но вновь лишь косвенно связанные с образом Гэтсби, находим также в эпизодах с туфлями Клип-спрингера и «фантастическим видением» Ника, но и без этого вопрос, вероятно, уже ясен.
Для Гэтсби, знающего нищету, костюм всегда исключительно важен (поэтому на свидание к Дэзи он приходит «в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке»), и отношение Гэтсби к одежде всегда будет иным, не может не быть иным, чем, например, отношение к одежде Тома или даже Ника, который, впрочем, в отличие от Тома и Дэзи, может и заметить, и понять эту разницу. Вся реальная история Гэтсби выступает в качестве скрытой причины, побудившей его набросать перед возлюбленной гору сорочек, понятна и наивность этого трогательного жеста.
Если все чувства и мысли Гэтсби обращены на возлюбленную, то ее мысли и чувства прежде всего обращены на самое себя. Дэзи плачет не от жалости к любимому, а от жалости к себе, жалости, вызванной смутным сознанием невозвратимости ушедших лет, безрадостно растраченных с Томом, и столь же смутным ощущением несоизмеримости своего чувства к Гэтсби с той любовью, которая сквозит в каждом его жесте. Дэзи жаль себя, потому что она «не дотягивает» до Гэтсби, потому что ее место — с Томом. Весь маленький эпизод имеет такое большое значение, эмоциональная насыщенность его такова, что просто невозможно сразу же перейти к продолжению повествования, и необходимая пауза подчеркивается даже графически.
Та или иная важная черта Дэзи доминирует в каждый данный момент не только в соответствии с объективным развитием действия, но и в зависимости от того, кто из главных героев смотрит на нее. Кроме того, если сложный характер Дэзи существенно раскрывается «через» связи с другими образами переднего плана, то и в «физическом» представлении героини эти связи находят блестящее художественное отражение. Рисуя Дэзи, Фицджеральд выносит ей очень строгий приговор, но нигде не прибегает к сарказму, гротескному заострению, а всегда остается в рамках строгой объективности. Дэзи может быть в романе объектом сурового обличения, но не резкой насмешки (в крайнем случае допускается мягкая ирония), чего о Томе, при всей общности супругов, никак нельзя сказать. Писатель нашел тонкую возможность незаметно подчеркнуть уважительное, бережное, даже нежное отношение к несбыточной, но прекрасной мечте.
Фицджеральд далек и от прямолинейного сообщения о внешности, например, цвете глаз или волос героини. Он находит тончайшие художественные средства для создания объемности, жизненной достоверности женского образа.
Читатель все время ощущает реальность Дэзи настолько, что либо совсем не замечает, либо замечает с удивлением и далеко не сразу, как мало знает о ее внешности. Если первая же (в непосредственном действии) встреча Ника с Томом ведет к появлению приводившегося «портрета во весь рост» («жестокое тело»), то следующий вслед за этим рассказ о Дэзи почти не содержит сведений о ее внешности. Единственным исключением является упоминание «миловидного и грустного» лица героини, которое «оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот» (I, 294). Показательно, что эти сведения не вызывают в сознании читателя никакой конкретной картины, зато здесь же очень много говорится о ее манерах, голосе, смехе, и сразу же как бы проступает ее двойственный характер: «Она... на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотом назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что шепоток Дэзи — уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишающий эту манеру прелести)» (I, 294). Читатель уже достаточно знаком с «незримыми» чертами Дэзи, чтобы не удивляться выводу Ника в конце визита: «Мне казалось, что Дэзи остается одно: схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома,— но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то меня не так поразило известие о «какой-то особе в Нью-Йорке», как то, что его душевное равновесие могло быть нарушено книгой» (I, 303). Здесь с самого начала «задается» и отличие Дэзи от Тома,— что, заметим кстати, делает обоих более реальными,— и общность их, и вся мерцающая, колеблющаяся атмосфера, таящая в себе импульс к развитию действия и составляющая одну из замечательных художественных черт поэтики романа.
Тот же принцип «показа» Дэзи выдерживается и дальше. Деталь ее внешности может возникнуть в повествовании только там, где это диктуется художественной задачей, не связанной, собственно, с образом героини.
Так, когда Дэзи под дождем приезжает к Нику, зримая картина, объективная и жизненно убедительная, создается следующими строками: «Мокрая прядка волос лежала у нее на щеке, точно мазок синей краски, капли дождя блестели на руке, которой она оперлась на меня, выходя из машины» (I, 356). Только так мы и узнаем, что Дэзи брюнетка. Во всех остальных случаях, когда речь заходит о внешности Дэзи, читателю предлагается лишь самая общая и неконкретная характеристика. Например: может упоминаться «точеный овал» ее лица; кстати, в этом случае «lovely» оригинального текста звучит еще менее конкретно, чем достаточно общее «точеный» перевода.
Такая особенность создания внешнего портрета героини объясняется также, вероятно, тем, что «смотрит» на нее главным образом Гэтсби, который видит не реальную Дэзи, подчас даже как-то особенно «приземленную», а свою прекрасную мечту.
В этом отношении очень характерны те сцены романа, в которых читатель «видит» Дэзи в последний раз. Предав любимого, сбив машиной Миртл, зная, что Гэтсби караулит возле ее дома, готовый, если она позовет, прийти на помощь, Дэзи в буфетной разговаривает с мужем: «Дэзи и Том сидели друг против друга за кухонным столом, на котором стояло блюдо с холодной курицей и две бутылки пива. Он что-то горячо доказывал ей и в пылу убеждения накрыл рукой ее руку (здесь и дальше разрядка моя.— Ю. Л.), лежавшую на столе. Она время от времени поднимала на него глаза и согласно кивала. Им было невесело: курица лежала нетронутая, пива в бутылках не убавилось. Но и грустно им не было. Вся сцена носила характер привычной интимности. Казалось, они дружно о чем-то сговариваются» (I, 406). Такую Дэзи Гэтсби, конечно, увидеть не мог, и вся сцена открылась перед заглянувшим в окно Ником, который не решился даже рассказать Гэтсби об увиденном, а ограничился сообщением, что «все тихо». Умолчание это усиливается, поскольку Ник понимает, что его правдивый отчет об увиденном избавил бы Гэтсби от мучительных часов ожидания под окном Бьюкененов. Гэтсби же в последний раз видит возлюбленную, только когда она на минутку показывается в окне (без Тома, разумеется), собираясь погасить свет.
Нельзя не отметить мастерство, с которым Фицджеральд вводит описание внешности или избегает такого описания там, где это диктуется художественной необходимостью. Ник рисует портрет Тома, которого, как и Дэзи, знал раньше, то есть до начала собственно действия романа. Портрет Тома появляется естественно. Во-первых, подъезжая к дому Бьюкененов, Ник имеет возможность рассмотреть стоящего в дверях хозяина. Кроме того,— и здесь «внешняя» возможность дополняется «внутренней» потребностью,— Ник хочет рассказать, как Том изменился за прошедшие годы. «Описание» Тома так и начинается фразой: «Он изменился с нью-хейвенских времен» (I, 292). К тому же Том и Ник не торопятся войти в дом, и Нику ничто не мешает спокойно осмотреть «пристанище» и его владельца. Дэзи, разумеется, тоже изменилась, но Ник об этом и не заикается, чему имеется вполне естественное объяснение: сначала его внимание отвлекает незнакомая ему Джордан (о ней он говорит до того, как заговаривает о Дэзи), а потом движение, смех, голос Дэзи ни на что другое не оставляют времени.
Образ Дэзи — первый действительно полнокровный реалистический женский образ в творчестве Фицджеральда-романиста. В книге «По эту сторону рая» характер Розалинды получился неубедительным прежде всего потому, что писатель пытался, как отмечалось, примирить в нем взаимно исключающие черты. Образ Глории, безусловно, свидетельствовал о возросшем мастерстве автора «Прекрасных и обреченных», но также не был лишен существенных недостатков, главные из которых — некоторая одноплановость и отсутствие психологической глубины. Ни подобных, ни каких-либо других претензий нельзя, нам кажется, предъявить образу Дэзи. Создатель «Великого Гэтсби» достиг творческих вершин, и отныне, как бы ни отличались одна от другой героини его крупных произведений, пишет их уверенная рука мастера.
С тем же мастерством созданы и другие женские образы романа. Чрезвычайно интересны некоторые особенности «изображения» Джордан. Параллелизм характеров Дэзи и Джордан, то есть социально обусловленная одинаковая этическая ущербность обеих героинь делает их духовно очень близкими и требует тонкой индивидуализации. Посмотрим, как Фицджеральд решает эту непростую задачу.
Если Дэзи в большой мере «видится» в романе глазами мечтателя Гэтсби, то на Джордан смотрит в основном «потерянный» Ник, настроенный, естественно, вообще весьма скептически, но уже готовый к поискам и восприятию новых ценностей, готовый принять и разные «посулы жизни». При первой встрече с Джордан Ника сразу же ошеломляют апломб и самоуверенность девушки, но вот он уже может рассмотреть ее: «Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться — плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня с хорошенького, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть, на фотографии» (I, 295 — 296). Ник больше рассказывает о фигуре Джордан, чем о ее лице, но повсюду упоминает преимущественно конкретные черты, потому что видит не мечту, а вполне реальную, «земную» девушку. Есть, конечно, и психологически понятное объяснение того, что лицу уделено меньше внимания, чем фигуре: Нику кажется, что он видел фотографию Джордан, знакомое же лицо нет нужды описывать подробно. И дальше о лице Джордан говорится, когда оно предстает перед Ником «крупным планом», или же, когда, как в сцене последней встречи Ника с Джордан, этого требует психологическое решение эпизода. Но и в этих случаях мы «видим» не лицо, а лишь отдельные детали его выражения. Зато упоминания о фигуре Джордан, ее осанке, спортивной «выправке» встречаются часто и выглядят естественно, поскольку она действительно известная спортсменка (отчасти отсюда же, кстати, апломб и самоуверенность), но есть здесь, очевидно, и скрытый глубинный психологический мотив.
Ник, позже вступивший в связь с Джордан, не только не наделяет девушку в своем сознании высокими достоинствами, но превосходно понимает ее истинную сущность. Уже в конце третьей главы говорится: «Она была неисправимо бесчестна. Ей всегда казалась невыносимой мысль, что обстоятельства могут сложиться не в се пользу, и должно быть, она с ранних лет приучилась к неблаговидным проделкам, помогавшим ей взирать на мир с этой холодной, дерзкой усмешкой и в то же время потворствовать любой прихоти своего упругого, крепкого тела» (I, 334). Ощущение какой-то преобладающей телесности неизменно подчеркивается чуть ли не при каждом появлении Джордан. Иногда это способствует достижению сложного художественного эффекта: «Как-то раз, в октябре девятьсот семнадцатого года... (рассказывала мне несколько часов спустя Джордан Бейкер, сидя отменно прямо на стуле с прямой спинкой в саду-ресторане при отеле «Плаза»)... Я шла по луисвиллской улице, то и дело сходя с тротуара на газон. Мне больше нравилось шагать по газону, потому что на мне были английские туфли с резиновыми шинами на подошве, которые вдавливались в мягкий грунт...» (I, 347). Здесь буквально зримо передастся свойственное лишь молодости обостренное чувство физического здоровья, энергии, ощущения, наконец, но в контексте всего повествования, где читатель уже не раз «видел» Джордан, наряду с этим вновь незаметно подчеркивается ее «телесность», хотя и в уме Джордан отказать нельзя. Соответственно окрашены и отношения Ника с девушкой, совсем не освященные высоким чувством. Эта «телесность» также способствует созданию незаметной, но многозначительной параллели между Джордан и Томом, к тому же оба они — люди спортивного склада.
Ошибкой было бы думать, что образ Джордан прост. Здесь есть свои колебания, как у Дэзи свои. Джордан может, например, вместе с Ником открыто смеяться над Томом, проявляет подчас глубокое понимание ситуации, иногда бывает очень откровенна, а иногда выражает неприкрытое презрение к тому самому обществу, которое и Ник описывает насмешливо и резко критически. Словом, Джордан предстает в романе как личность сложная.
Главное в этом плане — характер ее отношений с Ником. Будучи внутренне бесчестной, полностью принадлежа миру Бьюкененов, Джордан идет на прочную связь с Ником, первая «сдвигает» их отношения, хотя прекрасно понимает, что Ник не принадлежит тому же миру. Мало того, именно честность Ника, принципиальное отличие его от Тома, Дэзи, самой Джордан побуждает ее остановить свой выбор на нем. Если бы Джордан могла кардинально измениться, могла — вместе с Ником — полностью отвергнуть мораль социально оформленного большого богатства, разрыва, скорей всего, не случилось бы. Но в том-то и дело, что Ник становится для Джордан чем-то вроде страховки. Джордан и не думает меняться, а честный человек ей нужен, чтобы избежать возможного жизненного крушения, пример которого у нее перед глазами. Потому-то она в начале их отношений сама делает первый шаг к сближению, а когда в душе Ника созревает решение порвать с нею, противится этому разрыву, но и здесь остается верной себе и, говоря правду, тут же прибегает если не к прямой лжи, то во всяком случае к хитрости.
Образ Миртл Уилсон интересен тем, что имеет собственное значение и существенно дополняет характеристику Тома, способствуя ее жизненности, а также расширяет наше представление о диапазоне художественных средств в романе. Миртл в сущности эпизодическая фигура. Таких персонажей в книге несколько, и каждый из них показан в соответствующих эпизодах «крупным планом», что в первую очередь и отличает их как от чисто служебных, так и от массовых образов.
Миртл довольно сложная личность, по-разному проявляющая себя в различных условиях. Это характер, изломанный социальной «неприкаянностью», одиночеством. Наделенная от природы большой энергией, она не имеет возможности разумно применить ее. Мужа она не любит и, естественно, не помогает ему в его жалком бизнесе, да и необходимости в этом нет. Одиннадцать из своих тридцати пяти лет она просуществовала в почти полной духовной изоляции, ютясь в убогой квартирке над гаражом. Чтобы испытать радость обычного человеческого общения, не окрашенного ненавистью, ей приходится поездом добираться до города, где живет ее видавшая виды и весьма предприимчивая сестра. Миртл не принадлежит к миру сколько-нибудь состоятельного «среднего класса». Она — жена мелкого предпринимателя, находящегося на грани разорения. Супружеская измена, на которую она так легко идет, психологически подготовлена долгими годами неудовлетворенности. Связь с Томом неожиданно придала, как ей кажется, реальность ее жизненным притязаниям, вызвала к активности дремлющую энергию. К моменту появления на страницах романа Миртл, не обремененная ни знаниями, ни культурой, ни воспитанием, готова на любые действия.
Миртл — не только страшная и смешная, но и жалкая, даже трагическая фигура. Постигший ее конец обусловлен и логикой развития действия и логикой се характера и положения. Характер Миртл полностью раскрывается во второй главе, и обнаруживающаяся сложность его не позволяет смеяться над пей. Миртл, при всех се претензиях, значительно ближе к беднякам, чем к богатым, которые «ломают вещи и людей». Именно поэтому появлению ее «во плоти» предшествует описание Долины Шлака. Вся энергия Миртл не могла спасти ее, и есть своя закономерность в том, что вспышка этой неукротимой энергии бросила ее под колеса «автомобиля смерти». Так обнаруживается неожиданное, на первый взгляд, сходство в судьбах Миртл и Гэтсби.
Оценивая роман, конечно же нельзя пренебрегать этим сходством, но было бы ошибкой и придавать ему «абсолютное» значение. Образ каждого главного или даже эпизодического персонажа несет в анализируемом произведении собственную непростую «нагрузку» и не поддается одноплановой трактовке. Частичными являются и параллели, которые, тем не менее, исполнены серьезного смысла. Образ Миртл, нам кажется, не только дополняет образ Тома, не только помогает заострить социальную тенденцию и более полно выявить идеологическую направленность «Гэтсби», но и характеризуется теми пародийными чертами, которые позволяют и в самом сходстве увидеть существенное различие. Образ же обретает особенную реальность, удивительную жизненность, потому что его разнообразные характерные черты выступают, как только и бывает в жизни, в сложном переплетении.
Нику не сразу удается составить правильное представление о Миртл. Первое впечатление очень скоро даже покажется ему ошибочным, но в конце концов выясняется, что и подмеченные сразу же черты присущи Миртл ничуть не меньше, чем те, которые становятся заметны в процессе движения эпизода и как бы вытесняют первоначальное впечатление. Вот сцена первого появления Миртл: «На лестнице вдруг послышались шаги, и через минуту плотная женская фигура загородила свет, падавший из закутка. Женщина была лет тридцати пяти, с наклонностью к полноте, но она несла свое тело с той чувственной повадкой, которая свойственна некоторым полным женщинам. В лице, оттененном синим в горошек крепдешиновым платьем, не было ни одной красивой или хотя бы правильной черты, но от всего ее существа так и веяло энергией жизни, словно в каждой жилочке тлел готовый вспыхнуть огонь. Она неспешно улыбнулась и, пройдя мимо мужа, точно это был не человек, а тень, подошла к Тому и поздоровалась с ним за руку, глядя ему в глаза» (I, 307). Сразу становится понятно, что Тома привлекло обилие чувственной плоти, Оживленной скрытой энергией («плотскость» Миртл еще более подчеркивается лексикой оригинального текста, которую не всегда возможно совершенно адекватно передать в переводе). В процитированном пассаже собственно внешность Миртл не только неотделима от движения, но как бы переходит в него. Направление и характер этого движения непосредственно отражают и психологическое состояние женщины, и ее отношение к мужу.
Движение эпизода позволяет писателю почти сразу же перейти к характеристике духовной сферы Миртл, но и здесь прежде всего вводится мотив плоти, как бы предопределяющий дальнейшее: «...на ней теперь было платье из коричневого в разводах муслина, туго натянувшееся на се широковатых бедрах, когда Том помогал ей выйти из вагона...» (I, 308). Оказавшись в обществе Тома, Миртл получила возможность делать покупки. Она пользуется этой возможностью с присущей ей энергией. И покупки ее, и вообще все мелкие действия, и речь — все свидетельствует о крайнем духовном убожестве, пошлой претенциозности. Миртл уже не дома, а с богатым любовником, и она как бы утрачивает «нормальные» качества, стремится походить на хозяйку феодального поместья, а в результате полностью обнажает свою мещанскую сущность. Так в характере Миртл появляется, постепенно усиливаясь, уже не просто чувственное, «плотское», а какое-то животное начало, проглядывает страшное, даже чудовищное: «Переменив платье, она и вся стала как будто другая. Та кипучая энергия жизни, которая днем, в гараже, так поразила меня, превратилась в назойливую спесь. Смех, жесты, разговор — все в ней с каждой минутой становилось жеманнее; казалось, гостиная уже не вмещает ее развернувшуюся особу, и в конце концов она словно бы закружилась в дымном пространстве на скрипучем, лязгающем стержне» (I, 311).
«Превращение» Миртл происходит на соответствующем фоне, в соответствующей обстановке и в соответствующем обществе. В квартире все «не так». Она слишком мала для громоздкой мебели, и гобеленовая обивка, на которой вытканы сцены развлечений в Версальском парке (они составляют разительный явно иронический контраст развлечениям Миртл и ее гостей), несомненно, была выбрана самой «хозяйкой». В квартире не только люди, но и вещи как бы утрачивают нормальные, естественные качества: «Стены были голые, если не считать непомерно увеличенной фотографии, изображавшей, по-видимому, курицу на окутанной туманом скале. Стоило, впрочем, отойти подальше, как курица оказывалась вовсе не курицей, а шляпкой, из-под которой добродушно улыбалась почтенная старушка с пухленькими щечками» (I, 310). (В оригинале, кстати, нет никаких «пухленьких щечек», и «сюрреалистичность» сцены проступает отчетливее). Есть нарушение естественного состояния и во внешности Кэтрин, сестры Миртл: «Брови у нес были выщипаны дочиста и потом наведены снова под более залихватским углом; но стремление природы вернуться к первоначальному замыслу придавало некоторую расплывчатость ее чертам» (I, 310 — 311). Можно было бы привести и другие примеры, свидетельствующие о том, что здесь все «не так».
Именно эта тема подводит к скрытому, но весьма многозначительному сопоставлению вечеринки у Миртл с приемом у Бьюкененов и Гэтсби. У Гэтсби тоже что-то «не так». Именно поэтому его гости, вовсе, в сущности, не знающие его, распространяют о нем самые невероятные слухи, а толстяк в очках, из-за которых он похож на филина, потрясен тем, что книги в библиотеке Гэтсби настоящие, а не бутафорские. Атмосфера бесшабашного веселья, в котором чувствуется и «не такое», и настоящее, характеризует время действия и подводит к раскрытию двойственности Гэтсби как личности. Вечеринка у Миртл многозначительно пародирует прием у Гэтсби. У Бьюкененов тоже все «не так». В тот момент, когда Ник посещает супругов, у них все плохо именно из-за Миртл, хотя читатель, успевший немного познакомиться с Томом, понимает, что, не будь Миртл, был бы кто-нибудь другой. Когда же Миртл «у себя» пытается играть роль Дэзи, опять таки получается только уродливая пародия. Здесь ничего «настоящего» быть не может. Миртл не желает примириться с этим, настаивает на своих «правах», и тогда Том разбивает ей нос. Это еще не трагедия, и здесь еще допустима ирония: «...на диване лежит истекающая кровью жертва и судорожно старается прикрыть номером «Таун Тэттл» гобеленовый Версаль» (I, 317). Дэзи, сама того не зная, имеет отношение к тому, что Том ударил Миртл. Дэзи же предстоит вести «автомобиль смерти». В конце концов, Дэзи и Том губят не только Миртл, но и Гэтсби. Ни высокая, ни «приземленная» мечта не могут осуществиться в бездушном мире Бьюкененов.
Среди эпизодических очень интересен великолепно удавшийся Фицджеральду образ Вулфшима. Он написан столь блестяще, что прочитав роман, известная американская писательница Эдит Уортон, выделила именно этот образ [65]. Прототипом Вулфшима был некто А. Рот-штейн, один из главарей тогдашнего криминального мира США. Не исключено, что в данном случае успеху Фицджеральда способствовала возможность «отталкиваться» от живых черточек реального человека, но, поскольку речь идет не о фотографии, а о художественном образе, значение этого фактора едва ли стоит преувеличивать. Художественная убедительность характера Вулфшима определяется прежде всего тем, что автору удалось полностью выдержать его внутреннюю логику, не погрешив ни в одной частности. Нельзя также не отметить, что Вулфшим написан очень экономно. Он появляется лишь в двух небольших сценах, причем впервые только в четвертой главе, но для характеристики его существенны также упоминания о нем.
Образ Вулфшима в значительной мере строится на контрасте внешности, манер, речи, то есть внешних, даже отчасти поверхностных черт человека и его внутренней сущности. На вид Вулфшим всего лишь несколько комичный обыватель, заурядность которого подчеркивается и речью. Вот первое впечатление Ника: «Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распустившимися у него в каждой ноздре» (I, 343). На следующей странице читаем: «Мистер Вулфшим негодующе сверкнул на меня носом». Еще через две страницы: «Когда он прощался, а потом шел к выходу, его трагический нос слегка подрагивал. Я подумал: уж не обидел ли я его неосторожным словом?». Опасения Ника напрасны, как торопится объяснить Гэтсби,— такой уж этот Вулфшим смешной маленький человечек. И речь его, внешне окрашенная акцентом, внутренне удивительно банальна, полна расхожих штампов и в то же время очень естественна, лишена пародийных элементов. Ирония здесь как бы напрашивается, и может создаться впечатление, что именно черты заурядности Вулфшима побуждают Ника говорить о нем почти неизменно в ироническом тоне. Такое впечатление справедливо лишь отчасти.
Ирония Ника может опираться на внешние черты Вулфшима, но отражает прежде всего его отношение к сущности этого человека, а также помогает оттенить зловещую атмосферу, которая создастся вокруг фигуры Вулфшима вопреки его внешности. Комичное и зловещее выступают в прочном сочетании, и зловещее, подобно комичному, намечается с самого начала и в характере «воспоминаний» гангстера, и в его осторожности, и даже в том, что он с наивной и невинной гордостью демонстрирует свои запонки из «настоящих человеческих зубов». Впрочем, все это сначала кажется Нику чудачеством, странностью, даже оригинальные запонки воспринимаются как проявление своеобразного провинциализма, отсутствия вкуса, и Ник очень удивляется, узнав, кто же такой Вулфшим на самом деле. К этому времени Вулфшим уже успел попрощаться и уйти, а в следующий и последний раз он появляется лишь в заключительной главе романа. Откуда же насыщенная атмосфера зла, опасности, которая окутывает фигуру гангстера?
Начиная с седьмой главы, Вулфшим как бы незримо присутствует на сцене, причем именно в своем «зловещем» качестве. В седьмой главе мы сначала узнаем о новых слугах Гэтсби, которые больше похожи на бандитов, чем на слуг. Они, конечно, оказываются людьми Вулфшима. Затем, в сцене объяснения, Том весьма недвусмысленно и убедительно подчеркивает, что Вулфшим — личность опасная. В следующей главе Ник вновь упоминает Вулфшима дважды, и оба раза имплицируется зловещий характер этой фигуры. Таким образом, в седьмой и восьмой главах Вулфшим упоминается четыре раза, упоминается, но не появляется, а поэтому иронический тон исчезает полностью, зато зловещая атмосфера вокруг него ощутимо сгущается. Когда же (в последней главе) Вулфшим вновь непосредственно участвует в действии, снова звучат все уже знакомые нам мотивы, но иронический тон оказывается заметно приглушенным. Сентиментальный гангстер, которого, как говорил Гэтсби, «голыми руками не возьмешь»,— фигура достаточно страшная, и это акцентируется его внешней заурядностью и комичностью.
Особенности обрисовки Вулфшима позволяют выделить некоторые интересные средства комического в романе. «Великий Гэтсби», как нетрудно заметить,— произведение, насыщенное многообразной иронией. В нем есть и смешные ситуации (сцены), и персонажи, в большей или меньшей степени являющиеся смешными (комичными), или же показанные в тот момент, когда выглядят смешными. Ника, например, «разбирает смех», когда (в сцене решающего объяснения) распутник Том вдруг рядится в тогу цензора нравов. Выражение «разбирает смех» здесь неоднозначно У Ника возникает искушение рассмеяться, но он не смеется, и, что немаловажно, ни разу на всем протяжении романа читатель не смеется тоже. Как это объяснить?
Наивно было бы думать, что Фицджеральд не владел искусством заставить читателя смеяться. В творчестве писателя до 1925 г. есть не одно доказательство обратного.
Тот факт, что «Великий Гэтсби» — роман трагический, сам по себе вовсе не исключает правомерности появления в повествовании сцены, ситуации, эпизода, которые бы вызывали смех, по Ник, помимо всего прочего,— очень серьезный рассказчик, хотя и склонный иронизировать. Серьезность эта обусловлена важностью для самого Ника излагаемой им истории. Он знает, что речь идет о загубленной мечте, о жизни и смерти, а для него лично — о кардинальном жизненном решении. Он может относиться к себе и многим другим с иронией, доходящей подчас до сарказма, но в модели мира, представленной в произведении, горького много больше, чем смешного. Как ни странно, ирония, сарказм, пожалуй, даже препятствуют смеху, ибо в книге к смешному (комичному) всегда примешивается еще что-то напряженное, хоть и открывающее иногда простор для иронического (сатирического) тона, но не допускающее атмосферы смеха.
Есть конкретное отличие, но нет принципиальной разницы между причинами, мешающими, скажем, Нику рассмеяться в сцене объяснения, и причинами, не позволяющими ему «реализовать» для себя (в смехе) комичные черты Вулфшима. В четвертой главе романа Ник только знакомится с Вулфшимом, и нужно учитывать, что Гэтсби представляет сотрапезника как своего друга, что Ник совсем не знает этого забавного человечка. Дело, конечно, не только в том, что неприлично и даже невозможно «в лицо» смеяться над человеком, едва впервые увидев его, но и в том, что Ник взвешивает все происходящее на весах своего жизненного опыта. Другими словами, в момент знакомства Вулфшим кажется Нику забавным, комичным, но Ник еще не уверен в справедливости этого впечатления. Ведь и Гэтсби ему кажется то «настоящим», то «поддельным». Атмосфера повествования — атмосфера колебания, размышления, поиска не является «смеховой» но самой своей природе, а в сцене знакомства Ника с Вулфшимом все усиливается зловещий тон.
При всем обилии разного рода иронии и даже сарказма роман прежде всего лиричен. Лиризм его связан с избранным автором типом повествовательной перспективы, то есть с образом все того же Ника. В лиризме романа проявляется — и в немалой мере — его гуманистическое начало. В конечном счете, Нику больно не только за Гэтсби, себя, Джордан. Ему больно за человечество. Ему грустно, что все получается именно так, и он, не зная, как же активно воздействовать на ситуацию, возможно ли такое воздействие, делится своей грустью с читателем. Ник прочно усвоил совет отца о необходимости судить с осторожностью, и, как бы язвителен он ни был в отдельных местах своего повествования, он все время видит перед собой людей, а не объекты осмеяния. Ближе всего к тону «безоговорочной» насмешки Ник бывает тогда, когда речь заходит, волею сюжета, о богатых, которые бесчеловечны, «ломают вещи и людей», или о том обществе, которое постоянно посещало Гэтсби, смыкаясь с одной стороны с миром Тома, а с другой — с миром Вулфшима.
Едва ли не самую острую критику общества в «Гэтсби» обнаруживаем в знаменитом «каталоге гостей». Этот массовый образ (или массовая характеристика) составлен с таким блеском, что невозможно не процитировать хоть абзац: «Из Ист-Эгга приезжали Честер-Бек-керы, и Личи, и некто Бунзен, мой университетский знакомый, и доктор Уэбстер Сивет, тот самый, что прошлым летом утонул в штате Мэн. И Хорнбимы, и Уилли Вольтер с женой, и целый клан Блэкбеков, которые всегда сбивались где-нибудь в кучу и по-козлиному мотали головой, стоило постороннему подойти близко. Потом еще Исмэн и чета Кристи, точней, Губерт Ауэрбах с супругой мистера Кристи, и Эдгар Бивер, о котором рассказывают, что он поседел как лунь за один вечер, и, главное, ни с того, ни с сего» (I, 336).
О некоторых людях, представленных в списке, вовсе нечего сказать, фамилия их единственный отличительный признак. Сатирический смысл полного отсутствия характеристики особенно ярко выступает на фоне «говорящих» имен и кратких пояснений к другим фамилиям. «Каталог» даже ритмически организован очень продуманно, и чередование имен «нейтральных», «со значением» и сопровождающихся кратким ироническим комментарием создает общий сатирический эффект в полном соответствии с авторским замыслом. В то же время, умело расставляя «нейтральные» имена, а также имена, вызывающие лишь весьма отдаленные ассоциации, Фицджеральд несколько прикрывает издевательский характер «каталога», и ядовитая сатира в результате становится более тонкой, а серьезность тона нигде не исчезает. К сожалению, в переводе просто невозможно передать многообразные импликации, которые естественно воспринимаются англоязычным читателем. Приведем лишь несколько примеров.
«Некто Бунзен», конечно, не имеет никакого отношения к своему знаменитому однофамильцу, и сообщение о том, что Ник знал его по университету, является едва скрытой сатирической стрелой: напрасно «некто» посещал университет, не изобрести ему ничего похожего на всем известную со школьных времен горелку. Такую трактовку можно было бы объявить натяжкой, если бы справедливость ее не подтверждалась множеством аналогичных «совпадений». Фамилия упомянутого в приведенной цитате Уилли Вольтера по правилам английского языка должна читаться с ударением на первом слоге, но в оригинале она имеет французское написание (Voltaire) . На «поверхности» это означает лишь, что предки Уилли были выходцами из Франции, но уже появление перед прославленной фамилией обычного для Англии и Америки имени заставляет думать, что бедный Уилли так же не похож на фернейского мудреца, как «некто Бунзен» на всемирно известного химика.
Совсем откровенно звучит фамилия Лич. Английское «Leeches» означает «пьявки», но слово это имеет и другие значения: «кровопийцы», «вымогатели». А вот с фамилией Блэкбек связываются несколько более сложные ассоциации. В оригинале фамилия пишется Blackbuck. «Black» — черный, a «buck» на американском жаргоне и сейчас значит «доллар». Если учесть, что именно после первой мировой войны выражение «черный рынок» стало особенно популярным, то уже нетрудно будет связать фамилию членов «клана» с их поведением: не случайно они начинали тревожиться, «стоило постороннему подойти близко». Фамилию Бивер можно было бы, пожалуй, передать и как Бобров. Английское «beaver» и значит «бобр». Мех «седого» бобра очень ценится. Он и в 20-х годах был доступен только очень богатым. Мистер Бивер «поседел за один вечер». Не значит ли это, что он внезапно разбогател? Многозначительное: «и, главное, ни с того ни с сего» даже без обнаруженных коннотаций несет в себе большой сатирический заряд, и для англоязычного читателя сила этого заряда многократно увеличивается.
Есть второе значение и у фамилии Сивет. Это значение само по себе имеет оттенок скорее чисто юмористический, чем сатирический, но вот следует комментарий, и сатирическая нота немедленно сменяет юмористическую: о докторе Сивете просто нечего больше сказать, кроме того, что он «прошлым летом утонул в штате Мэн». Впрочем, по сравнению с вымогателями и мошенниками, доктор был, вероятно, почти положительным лицом, что объясняет относительно «невинное» звучание его фамилии. Упоминается в «каталоге» и весьма интересное имя Кэтлип. Английское «catlip» можно перевести как «кошачья губа». Казалось бы, даже у американцев может возникнуть ассоциация лишь с «заячьей губой», но такое впечатление было бы ошибочным. Есть в английском языке составное слово, отличающееся от «catlip» только одной буквой. Слово это — «catlap», и означает оно «пойло», «помои», «бурда». Трудно не подумать, что посещавшие Гэтсби Кэтлипы были бутлеггерами.
Разного рода находок здесь немало. Величина «каталога», занимающего две страницы и включающего десятки имен, сама по себе создает впечатление, что описано большое общество, а список гостей кажется в высшей степени представительным или даже исчерпывающим. При этом «подстановка» понятия «общество» на место «общество гостей» буквально напрашивается.
Страшная пустота этого общества подчеркивается замечаниями, предваряющими «каталог». Список гостей составлен на нолях устаревшего железнодорожного расписания, бумага истрепалась, и скоро даже перечисленные фамилии бесследно исчезнут (не случайно Ник прибегает к этому списку, не полагаясь на свою память).
В романе существует весьма сложная иерархия действующих лиц. Вслед за основными персонажами, роль которых исключительно важна даже в тех сценах, где они находятся как бы на периферии, упомянем ряд персонажей эпизодических, многие из которых выполняют функции настолько существенные, что могут — в отдельных случаях — почти полностью занять передний план, затем еще один ряд эпизодических действующих лиц, роль которых много скромнее. Есть также и просто служебные персонажи, а есть и замечательный массовый образ. Такая структура способствует убедительности повествования, помогает создать впечатление реальности. Появление того или иного персонажа и его поступки неизменно обусловлены не только логикой действия, но и логикой характера, неизменно несут четкий отпечаток социальных условий и времени.
Мы видели, что все характеры основных, а также важных эпизодических действующих лиц отмечены существенной сложностью. В них заметны противоборствующие черты. Повторим: весь роман имеет диалектический характер, в нем царит мерцающая, колеблющаяся атмосфера, содержащая импульс к дальнейшему действию, «стремящаяся» к прояснению. Эта атмосфера, этот характер всего произведения в значительной мере создаются вследствие того, что в действии проявляется диалектичность персонажей. Так достигается художественное единство «Великого Гэтсби».
Мы не рассматриваем всех художественных средств, используемых писателем при создании мужских и женских образов романа, но, вероятно, уже достаточно ясно, что средства эти разнообразны и многочисленны. Тем не менее психологическая убедительность, глубина и жизненная достоверность основных характеров «Великого Гэтсби» едва ли были бы достигнуты, если бы в основе их создания не лежал единый принцип, который сам Фицджеральд афористически сформулировал так: «действие есть характер». Это означает, что характер раскрывается прежде всего в действии, и вполне согласуется с эстетическими установками автора после отказа от «дискурсивного» романа. Действительно, выводы, заключения, суждения Ника о персонажах произведения неизменно основываются па тех действиях и поступках их, свидетелем которых он становится и в которых не сомневается. Достоверность действия (поступка) оказывается чрезвычайно существенной. Дошедший до Ника слух о неблаговидном поступке Джордан, например, может застрять в памяти рассказчика, но так и остается слухом, пока справедливость его не подтверждается аналогичным ее поступком, совершенным в его присутствии. Принцип этот соблюдается, насколько допускает сюжет, также при обрисовке образов второго ряда.
Остается посмотреть, как писатель отображает внутреннюю диалектичность образов. Наиболее характерным в этом плане является образ Гэтсби.
Название «Великий Гэтсби» роман получил не сразу. Еще примерно первого декабря 1924 г. Фицджеральд в письме Перкинсу довольно неуверенно предлагает два отброшенных вскоре варианта названия, но уже шестнадцатого декабря Перкинс извещает автора, что его телеграмма, содержащая окончательное название, благополучно прибыла [66]. В числе вариантов, серьезно рассматривавшихся писателем, было название «Тримальхион из Уэст-Эгга», а позже появилась идея назвать книгу просто «Тримальхион». Известно, что Перкинс был против этих названий, и писатель согласился с ним. Вероятно, решение отвергнуть «Тримальхиона» во всех видах объяснялось не только тем, что имя героя сатирического романа Петрония не было известно широкой публике. Тримальхион Петрония — грубый, вульгарный и хвастливый разбогатевший вольноотпущенник,— при всей своей реалистичности, был представлен в романе в сугубо сатирическом плане, Гэтсби же, как мы видели, является много более сложной личностью.
Критики не раз пытались выяснить, какой смысл писатель вложил в окончательное название романа. Вопрос этот интересен и важен, поскольку решение его помогает правильно оценить произведение и имеет самое непосредственное отношение к рассматриваемому предмету. А. М. Зверев кратко суммировал критические мнения и предложил собственную, новую гипотезу. Он считает, в отличие от А. Майзенера, который видит в заглавии книги лаконичную формулировку ее тональности, определяемую им как «трагическая ирония», или М. О. Мендельсона, находящего в названии сатирический прием, что «авторской иронии в заглавии романа нет — ни трагической, ни сатирической» [67].
Критик обосновывает свою точку зрения тем, что «в определенном смысле Гэтсби подлинно велик — как ярчайший представитель типа американского «мечтателя», как человек... не отступающий от «естественного» стремления к естественному «счастью». А. М. Зверев склонен абсолютизировать, так сказать, «подлинное величие» Гэтсби и пренебречь некоторыми существенными чертами героя. В талантливом анализе исследователя одно положение, на наш взгляд, едва ли может быть принято. «...Стоит Нику, — пишет А. М. Зверев,— побывать на очередном «приеме», как он вынужден признаться себе: в Гэтсби есть «нечто поистине великолепное». Что именно? Конечно, старания Гэтсби превратить будни в сплошной карнавал, на свой лад осуществив гармонию социального бытия, к которой должна была привести воплотившаяся в жизнь «американская мечта» 68 (разрядка моя. — Ю. Л.). Посмотрим, так ли это справедливо.
Прежде всего заметим, что Ник видит в Гэтсби «нечто поистине великолепное» не после посещения очередного приема; слова эти закономерно появляются в первой части первой главы, в той именно части, которая, помимо всего прочего, и «задает» тональность дальнейшему повествованию, и оказывается неразрывно связанной с последней частью последней главы романа. Все произведение, таким образом, как бы помещается в кольцо, представляющее собой единое целое даже при наличии противоположных «полюсов». Первая часть первой главы — это своеобразное «вступление», произносимое рассказчиком, который прекрасно знает и ни на минуту не забывает, как закончилась рассказываемая им история. Это «вступление» отмечено той конкретностью «настоящего», которая свойственна отправному пункту рассказа и которая — в «заключении» — уступает место широкому общему взгляду, объемлющему века истории (кстати, в том же «вступлении» нечто «поистине великолепное» разъясняется как «редкостный дар надежды», «романтический запал»).
Зачем же критику понадобилось привязывать (вопреки роману!) указанные слова Ника к посещению им очередного приема? Объяснение находим в конце приведенного высказывания Л. М. Зверева, но его «конечно» едва ли убедительно. Вопрос стоит рассмотреть подробнее.
Обратимся к тексту романа и тотчас увидим, что он совершенно не дает оснований превращать Гэтсби в подобие какого-то социалиста-утописта. Гэтсби вовсе не стремился «на свой лад осуществить гармонию социального бытия», превращая будни «в сплошной карнавал». Мечту Гэтсби действительно олицетворяет Дэзи, как она ни ничтожна, и герой романа стремится всего лишь к воссоединению с любимой. Не случайно же приемы тотчас прекращаются, как только выяснилось, что Дэзи они не нравятся.
Заметим кстати, что и Джордан кажется, будто Гэтсби устраивает приемы в надежде на визит Дэзи. Какие бы дополнительные соображения ни таились в подсознании Гэтсби, ясно, по-видимому, что прежде всего приемы даются именно для Дэзи. Поэтому трудно не согласиться с А. Лэтемом, утверждающим, что Гэтсби «ставил» их, как представления, «не для себя, а для аудитории — аудитории, состоящей из одного человека, чье имя Дэзи Бьюкенен» [69]. Добавим следующее. Мы видели, что самые острые стрелы сатиры Фицджеральда направлены именно на общество, постоянно посещавшее Гэтсби. М. Бьюли даже специально отмечает иронию пассажа об уборке в понедельник (после воскресного приема) и особенно подчеркивает факт приглашения на этот день еще одного садовника, «как будто,— пишет критик,— гости Гэтсби пробили брешь в природе» [70]. Как видим, критика весьма единодушно и совершенно справедливо утверждает, что на всем протяжении романа общество изображается иронически. Разумеется, мы не отождествляем полностью автора и рассказчика, но едва ли можно сомневаться в критическом отношении писателя к тому обществу, которое так ядовито характеризует Ник. Если учесть этот важнейший момент, концепция «гармонии социального бытия» не будет выглядеть закономерной. Ответить на вопрос, вызвавший такие разногласия, можно, лишь проследив особенности диалектической обрисовки Гэтсби в романе.
Уже говорилось, что Ник начинает рассказ, зная его завершение. Тем не менее рассказчик почти сразу как бы «забывает» о своих выводах и социально-этических оценках и совершенно отчетливо фиксирует колебания в отношении к Гэтсби. Иногда соответствующие суждения даже прямо выносятся «на поверхность» повествования и могут служить для пас «контрольными пунктами». Такое раскрытие образа особенно отчетливо проявляется в случае Гэтсби, поскольку именно его история имеет столь существенное значение для Ника. И в других случаях можно обнаружить неполную, но интересную, насыщенную смыслом аналогию. Так, Миртл при первой встрече с Ником (в гараже) производит на него одно впечатление и совсем другое, когда оказывается в городе, еще полнее она раскрывается в «своей» городской квартире, но в конце концов выясняется, что в той или иной мере ей были свойственны все подмеченные Ником черты. Даже относительно простой случай — Миртл — имеет, как видим, свои сложности. Нет ничего удивительного в том, что действительно сложная проблема величия («величия») Гэтсби вызвала столько критических разногласий.
Впервые Гэтсби упоминается в повествовании в том самом «вступлении», которое смыкается с «заключением» романа. Определив нравственный характер своей позиции, Ник сразу же выделяет Гэтсби, вызывая заметную противоречивость в суждениях о нем. Вероятно, не случайно здесь же упоминается и название книги: «Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение,— Гэтсби, казалось, воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю... в этом человеке было нечто поистине великолепное... Нет, Гэтсби себя оправдал под конец» (I, 288). В русском переводе есть одно слово, серьезно искажающее мысль оригинала. У Фицджеральда нет никакого «казалось», и это существенно усиливает оценку Гэтсби «со знаком минус». Перевод заставляет думать о том, что рассказчик сразу же признает совершенно ошибочной «минусовую» оценку Гэтсби, оригинал же, утверждая героя «со знаком плюс», все же не позволяет пренебречь и «минусом». Итак, с самого начала повествования отмечается двойственность характера героя. А. М. Зверев и сам неоднократно писал о двойственности Гэтсби. Признав ее, едва ли можно отрицать, что «минусовая» оценка героя является основой, а нередко и поводом для появления сатирико-иронического тона, тогда как «плюсовая» оценка либо «снимает» иронию вовсе, либо связывается с тоном трагической иронии. Подтверждение этому находим как в отдельных эпизодах (сценах), так и во всей концепции романа.
В рассказе о том, как Ник впервые видит Гэтсби, отражается та же двойственность, но здесь мы уже далеко ушли от «вступления», характер повествования теперь подразумевает последовательное изложение событий без какого бы то ни было априорного знания, и впечатление Ника, основанное на поверхностных суждениях («Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего уэст-эггского неба по праву причитается ему» (I, 304), тут же как бы частично опровергается эмоциональным жестом Гэтсби. Когда же рассказчик впервые попадает на прием к герою, общее умонастроение Ника уже получает конкретное наполнение. Непосредственной встрече с Гэтсби предшествуют два важных момента. Сначала Ник невольно узнает слухи и даже легенды о необычном соседе, причем ирония рассказчика в адрес гостей, распространяющих эти слухи, выражена совершенно ясно, но в то же время заметно, что какой-то след в сознании Ника все эти разговоры оставляют. Встреча с Филином вслед за этим еще больше укрепляет впечатление, что Гэтсби нельзя «определить» однозначно.
Обаятельная улыбка Гэтсби действует неотразимо, но как только она исчезает, перед Ником оказывается «расфранченный хлыщ». Странная, противоречивая и непонятная фигура Гэтсби вызывает интерес. Ник задает вопросы Джордан, но получает ответ, вовсе не рассеивающий его сомнений: «"Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде". В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон; но следующее замечание Джордан снова все смешало. "Впрочем, я этому не верю"» (I, 326).
Когда (в четвертой главе) Гэтсби рассказывает Нику свою (вымышленную) историю и описывает «жизнь молодого раджи», которую он якобы вел, Ник не верит ни единому слову: «Мне стоило усилия сдержать недоверчивый смешок. Весь этот обветшалый лексикон вызывал у меня представление не о живом человеке, а о тряпичной кукле в тюрбане, которая в Булонском лесу охотится на тигров, усеивая землю опилками, сыплющимися из прорех» (I, 340). Этот первый «контрольный пункт» вполне уместен в повествовании, так как отражает реакцию на слова самого Гэтсби. Но Гэтсби продолжает рассказ, перемежает вымысел хорошо «отпрепарированной» правдой, и уже на следующей странице Ник свидетельствует: «Так, значит, он говорил правду. Мне представились тигровые шкуры, пламенеющие в апартаментах его дворца на Большом Канале, представился он сам, склонившийся над ларцом, полным рубинов, чтобы игрой багряных огоньков в их глубине утишить боль своего раненого сердца» Все это нелегко себе представить, и Ник продолжает сомневаться, пока с моста Квинсборо не открывается город: «Теперь все может быть, раз уж мы переехали этот мост,— подумал я.— Все, что угодно...» Даже Гэтсби мог быть, никого особенно не удивляя» (I, 343).
Не успел Ник прийти к этому утешительному выводу, как Гэтсби вновь дал ему повод сомневаться, обнаружив свою дружбу с Вулфшимом и спокойное отношение к бизнесу «осторожного гангстера». Именно таков смысл краткого сообщения Ника (после ленча с Гэтсби и Вулфшимом): «Я настоял на том, чтобы оплатить счет» (I, 346). Этот приступ недоверия сменяется новым «плюсом» почти тотчас, ибо через несколько часов после упомянутого ленча Джордан рассказывает Нику о великой любви Гэтсби: «Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия» (I, 350).
«Плюсы» и «минусы» в отношении Ника к Гэтсби сменяют друг друга в довольно строгой последовательности, тем более удивительной, что естественность ее не вызывает никаких сомнений. Только что любовь придала Гэтсби истинную реальность, как бы освятила его действия, и вот вновь.уже он сам, поглощенный мыслями о Дэзи, дает повод для сомнений (I, 360). Почти тотчас снова открывается часть правды о Гэтсби, и Ник сообщает: «Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь — в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему — или ничему» (I, 369). Так Ник в начале шестой главы недвусмысленно заявляет, что долго еще колебался в своих суждениях.
Когда Гэтсби в сцене решительного объяснения рассказывает, как он попал в Оксфорд, реакция Ника оказывается весьма знаменательной: «Мне захотелось вскочить и дружески хлопнуть его по спине. Я вновь обрел свою поколебленную было веру в него, как это уже не раз бывало раньше» (I, 393). Так Ник открыто выражает хорошее отношение к Гэтсби. Нику хочется верить в Гэтсби.
В рассказе об убийстве Гэтсби тон и лексика повествования исключают какую-либо возможность появления иронии, и можно было бы думать, что иронические ноты в обрисовке Гэтсби больше не прозвучат, но, оказывается, это не так: когда уже колебаниям и места нет, Ник все же сохранит к Гэтсби двойственное отношение. Это видно из его ответа на слова отца Гэтсби, утверждавшего, что его сын, поживи он дольше, принес бы большую пользу стране: «"Вероятно",— сказал я замявшись» (I, 425; разрядка моя.— Ю. Л.). Это видно и из последней беседы Ника с Вулфшимом, где явная ирония обнаруживается в мыслях рассказчика, вызванных словами Вулфшима о его близости к Гэтсби: «Интересно, подумал я, действовало ли это содружество во время истории с Уорлд Сириз в 1919 году» (I, 428).
Ироническая нота звучит и в сцене похорон Гэтсби. Уже знакомый нам Филин теперь оказывается единственным из гостей, приехавшим на похороны. Именно он и произносит прочувствованную, но окрашенную иронией эпитафию Гэтсби: «"Эх, бедняга!" — сказал он» (I, 431). Эту идею можно выразить по-английски, причем однозначно, словосочетаниями «poor chap», «poor fellow» и др. Буквальный же перевод «эпитафии» выглядит так: "Бедный сукин сын!" — сказал он» («"The poor son-of-a-bitch",— he said» (p. 182). Сами по себе эти слова не имеют иронического смысла. Но в общем контексте романа они оказываются весьма красноречивыми. В реплике Филина превалирует, конечно, слово «бедный», но и оно несет элемент иронии. Вспомним, что Гэтсби считал себя сыном божьим. Имя, придуманное им для себя (Gatsby), иногда трактуется критиками как измененное «God's boy» (косвенным подтверждением чему может быть фраза «сын божий» [71] — «Не was a Son of God...; p. 105).
Итак, несомненно трагическая ирония достаточно ясно звучит в «заключении» романа, а конкретный характер «вступления» оставляет возможность для появления и сатирической иронии, но в свете огромного социально-исторического обобщения, когда конкретное как бы растворяется в общеисторическом, трагическая ирония в адрес Гэтсби предстает уже как бы в отражении, относится к герою как к представителю многих поколений.
Мы уже знаем, в чем Гэтсби был действительно велик. Если рассматривать его как исторический тип, вне контекста, если пренебречь некоторыми существенными чертами этого характера, можно, пожалуй, утверждать, что в словах «великий Гэтсби» нет никакой иронии. Если акцентировать внимание на бедности духовного мира Гэтсби (а духовный мир его в определенном смысле был беден, поэтому Ник и открывает почти мгновенно, что говорить с Гэтсби нс о чем), то, конечно, в заглавии романа обнаруживается сатирический оттенок. Оспаривать же наличие трагической иронии в названии «Великий Гэтсби» представляется, если учесть все сказанное выше, делом трудным и неблагодарным. Вероятно, правы и А. Майзенер, и М. О. Мендельсон, и А. М. Зверев, но каждый — лишь отчасти. В названии романа отражена сложность характера героя. Смысл названия раскрывается лишь всем контекстом книги.
«Великий Гэтсби» написан с таким художественным совершенством, так «плотно», что, рассматривая какой-нибудь аспект этого произведения, почти невозможно не коснуться его композиции. Этот предмет слишком важен, чтобы можно было ограничиться несколькими попутными замечаниями.
Как ни удивительно, во всей огромной и постоянно растущей «фицджеральдиане» нет работ, специально посвященных композиции «Гэтсби». Как правило, критики констатируют центральное положение пятой главы и находят кульминацию повествования в седьмой [72], либо отмечают существенный параллелизм в трех первых главах романа, уделяя внимание и другим, часто менее заметным, «параллельным» мотивам, сценам, деталям [73]. Эти важные наблюдения почти неизменно относятся к «внешней» структуре романа и вовсе не затрагивают скрытую основу его композиции. Между тем особенность художественной организации «Гэтсби» как раз и состоит, во-первых, в наличии двух уровней композиции, во-вторых — в наличии ряда параллельных, как бы переплетающихся мотивов, подчас проходящих через все повествование, иногда менее значительных, но архитектонически и содержательно существенных, придающих немалую дополнительную «прочность» структуре произведения, и, наконец, в наличии упоминавшихся «вступления» и «заключения», которые как бы охватывают все повествование кольцом и оказываются характерными именно для данной жанровой разновидности романа. Рассмотрим сначала «внутреннюю композицию» произведения, которую, пожалуй, можно считать его скрытой временной основой.
Развитие действия в «Гэтсби» отличается некоторыми важнейшими особенностями. Основная из них та, что, помимо непосредственно происходящего на глазах Ника, то есть действия в условном настоящем времени, в романе от начала до конца присутствует как бы линия прошлого,— действия, свидетелем которого Ник, если исключить сведения из его собственной биографии и, отчасти, из истории его семьи, не был и не мог быть, но которое необходимо в канве повествования. В графическом представлении линия «настоящего», то есть того, чему Ник является свидетелем летом 1922 г., составила бы однонаправленную прямую, разбитую на отрезки неравной величины (главы). Роль Ника как очевидца подчеркивается тем, что только в седьмой главе возникает необходимость в раздвоении действия. При этом первые две трети романа уже дали достаточно точных сведений, чтобы реконструкция рассказчиком событий но косвенным данным была принята читателем безоговорочно. Да и характер этих событий таков, что реконструировать их оказывается нетрудно. Заметим, что раздвоение действия в седьмой главе не уводит в прошлое, так как обе возникшие на недолгое время линии остаются в сфере условного настоящего.
Иначе выглядит в романс обрисовка прошлого. Линия прошлого условна, это, собственно, лишь отдельные отрезки, как бы уходящие вниз от прямой условного настоящего. В этих отрезках содержатся сведения о тех или иных эпизодах из прошлого ведущих персонажей, впрочем, с одним чрезвычайно интересным исключением. Все отступления в прошлое, составляя фундамент собственно действия, оказываются прочнейшим образом связанными с ним и вводятся рассказчиком совершенно естественно. Эта естественность подчеркивается неизменной близостью прошлого к «настоящему». Только Ник, говоря о своей семье, «уходит» в прошлое дальше, чем на одно поколение. Зато в «заключении» прошлое, не утрачивая связи с «настоящим», становится далеким, историческим прошлым, и это по-новому освещает все повествование, обнаруживая объемный подтекст романа.
Прочная связь, даже единство прошлого и «настоящего» в композиции «Гэтсби» является результатом особенностей всей временной конструкции. Как правило, речь идет о прошлом персонажей, которые действуют в «настоящем», и здесь неизменно обнаруживается единство характера, выдерживаются причинно-следственная связь, логика поведения. Отступления в прошлое располагаются в повествовании неравномерно. Их рисунок сам по себе отражает композиционную структуру. В первых двух главах таких отступлений мало: речь идет только о прошлом Ника, Тома и, в меньшей степени, Дэзи (первая глава), Миртл и Тома (вторая глава). Правда, во второй главе затрагивается также прошлое Гэтсби, но это пока всего лишь слухи, Ник еще не знаком с Гэтсби — этап экспозиции. Отступления в прошлое становятся гуще и разнообразнее в третьей главе: происходит встреча и знакомство рассказчика с Гэтсби — экспозиция перерастает в непосредственное действие. Интенсивность отступлений нарастает в четвертой главе, подготовляющей центральный эпизод романа. До сих пор все происходило в соответствии с логикой повествовательного движения (развития непосредственного действия). Об отступлении в пятой главе приходится говорить отдельно.
«Великий Гэтсби» — роман из девяти глав, и пятая глава является отнюдь не только «пространственным» центром, так как содержит центральный эпизод произведения. На протяжении первых четырех глав Ник встречается с разными людьми, и все эти встречи так или иначе готовят главную встречу — Гэтсби с Дэзи. Эта встреча и описана в пятой главе. Напряженность сцены настолько велика, что кажется, ни для каких отступлений в прошлое «зазоров» не остается. К. Эбл вполне обоснованно утверждает даже, что на мгновение Гэтсби удается удержать вместе прошлое и настоящее, чем критик и объясняет характер сцены, которую находит самой статичной в книге [74]. Казалось бы, момент удержания вместе настоящего и прошлого препятствует отступлению в какое-то другое прошлое, но здесь-то и подчеркивается, причем очень тонко, отличие Гэтсби, живущего как бы вне времени, от Ника, который остро чувствует необратимость движения того же времени.
Пока Гэтсби удерживает прошлое и настоящее вместе, Ник, оставивший, естественно, влюбленных вдвоем, думает как будто о доме Гэтсби, а на самом деле — о безнадежности попытки возвратить прошлое.
Мы знаем, какое значение Гэтсби придавал своему дому, знаем, как он хотел показать его Дэзи при первой же встрече в «настоящем», понимаем это желание, так как дому Гэтсби, по замыслу владельца, предстояло стать домом и его возлюбленной. Вообще для Гэтсби, бывшего, в сущности, бездомным, пока он не приобрел копию старинной нормандской ратуши, идея дома чрезвычайно важна, что не раз скрыто подчеркивается в романе. Поэтому в эпизод встречи и «врывается», не случайно прерывая его, единственное в главе отступление в прошлое. Это единственное в романе отступление в прошлое не действующего лица «настоящего» времени, но образа, который в конце концов обретает характер символа, позволяющего увидеть и оценить второй, более высокий «уровень» произведения. Оказывается, дом, купленный Гэтсби, был построен для богатого пивовара, «и рассказывали, будто пивовар предлагал соседям пять лет платить за них все налоги, если они покроют свои дома соломой. Возможно, полученный отказ в корне подсек его замысел основать тут Родовое Гнездо — с горя он быстро зачах» (I, 359). По иронии судьбы Гэтсби пытается вернуть прошлое именно там, где одна такая попытка уже закончилась неудачей, и отступление в прошлое дома, построенного всего «лет десять назад», но архитектурой своей — и в этом есть ирония — претендующего на многовековую историю, красноречиво указывает на несбыточность желаний героя, предопределенность судьбы которого в этом эпизоде уже отчетливо видна. Впрочем, значение «отступления о доме» этим не исчерпывается.
В «заключении» романа древний континент предстает перед голландскими моряками как новый дом, обещающий воплощение в жизнь мечты о счастье: «...должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, — ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым с заложенной в нем способностью к восхищению» (I, 435). Обещание, увы, оказалось обманутым. Скрытая связь между отступлением в прошлое дома и «заключением» романа представляется несомненной и многозначительной.
В следующих трех главах число отступлений в прошлое резко сокращается (только в шестой главе — два, а в седьмой и восьмой — по одному), что понятно, поскольку, развитие действия успело уже получить свое обоснование. Все эти отступления относятся только к Гэтсби или Гэтсби и Дэзи вместе, и это вполне адекватно соответствующим отрезкам действия в «настоящем». Зато в последней главе романа, содержащей основные этические выводы и подчеркивающей его «историзм», число отступлений в прошлое вновь показательно возрастает. Кладутся последние мазки на портрет Гэтсби. Кроме того, Ник вспоминает о каникулярных поездках домой, на Запад, и это отступление в недавнее прошлое готовит отступление в историческую даль, готовит картину, возникшую некогда перед восхищенным взором голландских моряков. Остается заметить, что первое и последние отступления в прошлое совершаются самим рассказчиком, чем подчеркивается единство «кольца», охватывающего роман.
Строгая и четкая структура временной основы произведения находит, как отчасти уже было показано, точное соответствие в структуре «внешней» или собственно композиции. Нетрудно заметить, что «Великий Гэтсби» построен по плану, повествование в нем является в высшей степени организованным. Действительно, все произведение можно условно разделить на три равные (по числу глав) части. Конечно, эти части неразрывно связаны и взаимозависимы, служат как бы опорой друг для друга, и читателю по мере развития действия не раз приходится мысленно возвращаться к истокам повествования. Тем не менее именно характер собственно действия и специфическая основная роль каждого трехглавого отрезка дают основание выделить в романс три части.
Первые три главы в основном представляют собой, как упоминалось, экспозицию. На первый взгляд может даже показаться, что действие, существенное для развития сюжета, в этой части произведения отсутствует. В плане условного настоящего первая глава повествует о визите Ника к Бьюкененам, вторая — о его присутствии на «приеме» в квартире, которую Том снял для любовницы, третья — о том, как рассказчик побывал на приеме у Гэтсби, наслушался легенд о хозяине и познакомился с ним. Тем не менее в сущности ничего не произошло. Особенность этой части романа в том и состоит, что развитие сюжета достигается не столько действием,— «уходящим» в детали, правда, важные, обеспечивающие объемность действующих лиц,— сколько постепенным накоплением различных сведений. Сведения эти включают всю идейно-эстетическую сферу романа и, накапливаясь, как бы вынуждают статику сюжета в какой-то момент перейти в динамику, что и происходит в четвертой главе.
Главы четвертая, пятая и шестая (условно вторая чacть произведения) характеризуются иным качеством действия. Собственно, в них происходит существенное для развития сюжета действие, подготовляя и неумолимо приближая кульминацию. Нарастание интенсивности действия и изменение его качества происходит постепенно, а единство тона рассказчика в значительной мерс обеспечивает единую стилевую окраску всего повествования. Может показаться, что в четвертой главе дается лишь вариант одной из предшествующих: Ник завтракает с Гэтсби и Вулфшимом. Но сходство четвертой главы с предыдущими значительно менее важно, чем ее отличие от них. Именно в четвертой главе выясняется история любви Гэтсби и Дэзи; там же намечается развитие их отношений в условном настоящем, а также происходит существенный сдвиг в отношениях Ника с Джордан. Пятая глава рассказывает о встрече Гэтсби и Дэзи. Это уже «чистое» развитие действия. Но если в условном настоящем оно благополучно для героев, то скрытая временная структура и некоторые элементы образной системы романа уже здесь недвусмысленно предвещают трагедию. В шестой главе развитие действия приводит к усилению напряжения, завершается подготовка кульминации — прямого столкновения Гэтсби с Томом. При этом каждое, даже мельчайшее движение действующих лиц неизменно обосновывается психологически, что, между прочим, незаметно обусловливает естественное и в то же время крайне необходимое введение насыщенных содержанием «пауз», прерывающих действие в условном настоящем.
Наконец, последние три главы романа содержат кульминацию и развязку действия (главы седьмая и восьмая) и — в девятой главе — окончательные нравственные и социально-исторические итоги. Органичность «эпилоговой» главы в повествовании определяется не только тем, что мертвый Гэтсби все еще «участвует» в действии, но и тем, что только здесь находит полное завершение важнейшая сюжетная линия Ника. Непосредственное действие, как бы «чистое» движение, в седьмой и восьмой главах не оставляло места для окончательного выяснения отношений Ника с Джордан и только готовило почву для разрыва. Все события, описанные в седьмой и восьмой главах, кажутся единственно возможными. Обусловленность доминирует, и даже случайное — это верно отмечает Т. Л. Морозова,— выступает здесь как проявление закономерного [75]. Не менее важно в этом плане и то, что только в последней главе второй «уровень» романа обретает четкие очертания. Стремительность действия в седьмой и восьмой главах подчеркивается минимальным количеством отступлений в прошлое, а в эпилоговой главе, естественно, наблюдается его спад, и это акцентируется не только возрастающим числом отступлений в прошлое, но и всей архитектоникой главы, где действие как бы распадается на отдельные отрезки, лишь внутренне связанные друг с другом. Важно в этом отношении и то, что большая часть главы рассказывает о похоронах Гэтсби и связанных с ними событиях.
Рассмотрев «внешнюю» и «внутреннюю» композиции «Великого Гэтсби», можно перейти к анализу того, что хочется назвать социально-психологическим лейтмотивом романа. До сих пор речь шла в основном о времени, теперь же она пойдет главным образом о пространстве.
В последней главе романа Ник отмечает: «Я вижу теперь, что, в сущности, у меня получилась повесть о Западе,— ведь и Том, и Гэтсби, и Дэзи, и Джордан, и я, все мы с Запада...» (I, 431). Тема Востока и Запада начинает звучать еще в первой главе. Разработка ее завершается лишь в самом конце повествования, но именно эта тема имеет одну немаловажную особенность: масштаб сопоставления Запад — Восток неуклонно расширяется, захватывая, в конце концов,— во всяком случае имплици-рованно,— не только Америку, но и Европу.
На первых же страницах романа мы узнаем, что Ник приехал в Нью-Йорк с Запада, но вскоре вернулся домой. В сущности, «вступление» и непосредственно следующее за ним отступление в прошлое Ника и его семьи очерчивают временные границы действия в условном настоящем, а пространство, как может сначала показаться, является в произведении фактором второстепенным. Ошибочность такого впечатления полностью выявляется лишь в общем контексте романа, но уже «выбираясь» из упомянутого отступления в прошлое и переходя к условному настоящему, рассказчик включает сопоставление Востока и Запада в образную сферу романа, и только что смутно имплицированное противопоставление тотчас обретает конкретное содержание. Так в произведении появляются придуманные автором Ист-Эгг и Уэст-Эгг — «два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал — только, подобно колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный — полное различие во всем, кроме очертаний и размеров» (I, 290).
Тема колумбова яйца (Эгг - egg, (англ.) означает «яйцо») возникает здесь не случайно. Напоминание о том, кто открыл Америку, перекликается с важной темой «заключения». Неслучайно подчеркивается и близость этих странных природных образований друг к другу. Они связаны превосходной дорогой, обитатели Ист-Эгга то и дело посещают приемы у Гэтсби, уэст-эггского соседа Ника, но в сети пространственно-временных отношений, определяющих судьбы героев романа, далеко не все так просто, как может показаться. Гэтсби, этот живой анахронизм, живет, в сущности, совсем рядом с Дэзи. Когда Ник впервые видит его, Гэтсби протягивает руки не «к темной воде», как представляется рассказчику, а к зеленому огоньку на причале у дома Дэзи. (Кстати, здесь даже лексика подчеркнуто та же, что в предпоследнем абзаце романа). И Гэтсби, конечно, не удается «дотянуться» до Дэзи, несмотря на всю ее близость. Как видим, пространство в романе не существует вне времени. В двухсотлетнем «опоздании» Гэтсби, в обманчивости блеска его мечты и ее реальном убожестве выступает «на поверхность» трагическая ирония истории.
Эти пространственно-временные отношения находят отражение в структурных элементах произведения. «Заключение» романа всей лексикой и собственно содержанием образует определенную параллель рассказу об Ист-и Уэст-Эгге в первой главе. Это подчеркивается и темой дома, в частности дома Гэтсби. Показательно, что тема эта возникает сначала как бы безотносительно к самому Гэтсби: «Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал» (I, 291). Действительно, мы знаем, что Гэтсби погибает, его обреченность ощущается уже, когда выясняется судьба злополучного пивовара, но это — в условном настоящем или в отступлении в недалекое прошлое. Века истории «входят» в роман во всей конкретности, во-первых, в рассказе даже не подозревающего об этом старого Гетца и, во-вторых, в «заключении», где вновь, но на ином уровне, звучит тема дома — звучит в шелесте деревьев, «тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби...» (I, 435). Пространство и время здесь вновь неразделимы. Дом пивовара — дом Гэтсби — вытеснив в пространстве и времени деревья нового мира, разрушил мечту человечества. Но мечта эта таит в себе трещину, и социально-исторический смысл того, что имплицируется в романе, подчеркивается еще одной параллелью: для дома Гэтсби пришлось пробить брешь в нетронутой природе нового мира, как гости Гэтсби пробивают брешь в природе, вынуждая хозяина нанимать второго садовника для уборки по понедельникам. Увы, рассказчик не знает, где искать садовника для уборки пространства, включающего Америку и Европу.
Фицджеральд проводит сопоставление Запада и Востока через весь роман, обогащая его все новыми обертонами. (Заметим попутно, что именно такую особенность художественного претворения мира имел в виду Д. Ф. Кэллэхен, отмечавший, что писатель использовал в этом произведении технику контрапункта [76]). Так, в той же первой главе тема Востока и Запада как бы сама собой поднимается в беседе Ника с Дэзи, Томом и Джордан: «"Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать" (с Востока.— Ю. Л.). Тут мисс Бейкер сказала: "Факт!" — и я даже вздрогнул от неожиданности: это было первое слово, которое она произнесла за все время» (I, 295). Не потому ли Джордан ни звука не промолвила, даже когда Дэзи знакомила ее с Ником, чтобы начать свою партию в романс, солидаризируясь с Томом и столь важном вопросе? Так или иначе, но тема постоянно поднимается и в дальнейшем, всякий раз в несколько новой тональности.
Если последовательно проследить развитие и раскрытие этой темы в романе, в ней обнаруживается важнейшая подтема. Особенности исторического развития США, в частности особенности «фронтира», обусловили относительную разницу в укладе и, на какое-то время, даже в этике «развратного» Востока страны и «добропорядочного» Запада. Естественно, десятилетие после первой мировой войны явилось свидетелем пересмотра и легенды о принципиальном и кардинальном различии западных и восточных штатов. Впрочем, отдельные особенности природы, быта, уклада, а также уцелевшие пережитки старины придают этой легенде такую живучесть, что даже сегодня некоторые талантливые писатели США с тоской указывают на приписываемую Западу человечность как на идеал, чуждый, увы, «порочному» Востоку. Если Ник сразу же отмечает — на одном уровне — разницу между Западом и Востоком, то — на другом уровне — он показывает этическую несостоятельность обоих районов, и здесь пространство вновь оказывается неразрывно связанным со временем. Рассмотрим один эпизод «сведения» Запада и Востока вместе, добавив, что принципиальная этическая несостоятельность того и другого, при всем их внешнем различии, подчеркивается в романе неоднократно (например, в «каталоге» гостей, где перечисление посетителей из Уэст-Эгга отделяется от списка гостей из Ист-Эгга, но в характеристиках обеих групп не только нет противопоставления, но, с немалым значением,— звучит одна и та же сатирическая интонация). В последней главе романа Ник вспоминает Средний Запад своего детства, и воспоминания его окрашиваются лирико-романтическим тоном, также имеющим аналогию в первой главе. Тем не менее для взрослого Ника, умудренного, помимо всего прочего, рассказанной им же историей, нравственная оценка Запада оказывается по-своему столь же отрицательной, сколь и оценка Востока, причем эта принципиальная общность явно превалирует над непринципиальными отличиями одного района от другого. Именно поэтому в рассказе Ника Запад и Восток переплетаются в конце концов так, что приходится говорить о них в едином абзаце: «Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки, раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков,— даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорей не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, а на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому — это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать» (I, 432).
В «заключении» романа тема Запада и Востока получает окончательную обобщающую трактовку. Здесь принципиальная этическая оценка распространяется уже не только на Соединенные Штаты, но и на Старый Свет, и это также тщательно готовится в романе, где Европа не раз поминается и в связи с первой мировой войной, в которой участвовали оба центральных героя, и в связи с «нашествием» американцев в Европу в первое послевоенное десятилетие. Всякий раз такое упоминание имеет существенные обертоны. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить беседу Кэтрин, сестры Миртл, с Ником (во второй главе).
В теме Востока и Запада, в ее лейтмотивном звучании обнаруживается прежде всего характеристика исторической эпохи, представленной в романе. Понадобилась мировая война, чтобы мыслящие американцы окончательно распрощались со своими глубоко укоренившимися иллюзиями и на горьком опыте убедились, что и они — не счастливое исключение. В творчестве лучших писателей США понимание этого обеспечило ту силу гуманизма, то его качество, которые в большой мере способствовали превращению американской литературы в одну из ведущих литератур мира.
Есть в романе и другие лейтмотивы — результат разработки тем, особенно важных для раскрытия его идейного содержания. Уже из представленного разбора видно, что лейтмотив редко звучит сам по себе, почти всегда — в переплетении с другим (или другими), что обеспечивает восприятие всей тематики романа в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости. Лейтмотивы также неизменно включаются в собственно образную сферу романа. Упоминавшаяся «плотность» «Великого Гэтсби» во многом объясняется этой его чертой. Модель мира, представленная в романе, отражает всю сложность реальной жизни, к тому же показанной в процессе исторического движения, а образная система препятствует малейшему проявлению схематичности.
Новую для творчества писателя трактовку обретает в книге тема богатства. Мы уже видели, как она разрабатывалась через образы и судьбы героев. Образная система романа служит внутреннему, скрытому обоснованию соответствующих характеристик и действий всех ведущих персонажей, и огромное значение приобретает в этой системе контраст серого шлака и сверкающих дворцов, контраст, который реализуется смертью бедняков — Миртл и Уилсона. Вот здесь необходимо вернуться все к той же двойственности Гэтсби. Невозможно рассматривать его в отрыве от соответствующих настроений Ника, в значительной мере незаметно отражающих и выражающих позицию самого Фицджеральда.
Известное логическое правило (post hoc non propter hoc) гласит, что простая последовательность событий вовсе не обязательно вовлекает их причинную связь, но художественное отображение мира имеет собственную логику. Если за каждым «плюсом» в разработке одной и той же темы неизменно следует «минус», это неоспоримо свидетельствует об отрицательном отношении писателя к предмету, и такое отношение в подлинно художественном произведении непременно всесторонне подтверждается. Двойственность Гэтсби может в этом отношении привести к неправильной расстановке содержательных акцентов, среди которых должна быть установлена определенная иерархия.
Богатство Гэтсби особенно интересно в данном случае по нескольким причинам. Гэтсби родился бедняком, он антагонистичен Тому, жертвой которого становится точно так же, как Миртл и ее муж, и богатство, приобретенное Гэтсби, ничего во всем этом не меняет и не может изменить. В первых романах писатель, как мы видели, отразил сложное отношение к богатству. При поверхностном чтении может показаться, что отношение это мало изменилось и в «Великом Гэтсби». Действительно, пусть безусловно осуждаются богатые Том и Дэзи, пусть Пик перестает интересоваться тайнами Мецената, Моргана и Рокфеллера, но как быть с богатством самого Гэтсби? Оно как будто имеет особое качество. Не случайно же возникают мысли о непрерывном карнавале, который с незапамятных времен был праздником для всех. Не будем вновь подробно говорить о гостях Гэтсби, с полным основанием охарактеризованных в романе сатирически, не будем докалывать, что и щедрость Гэтсби не вполне бескорыстна, не будем останавливаться на многих относящихся к вопросу иронических мотивах. Посмотрим, как в тексте романа не только богатство Тома, но и богатство Гэтсби связывается с тем, что Ник «презирал и презирает».
Первое конкретное упоминание о богатстве Гэтсби находим в первой же главе, когда Ник рассказывает о своем скромном домике, «затиснутом» между двумя роскошными виллами, одной из которых (о другой мы так ничего и не узнаем) и владеет Гэтсби. В нервом описании дома Гэтсби уже звучат прозаические мотивы (за такой дом платят двенадцать — пятнадцать тысяч в сезон), но в целом оно кажется нейтральным, пока в конце того же абзаца не появляется откровенно ироническая интонация: «...я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров — все за восемьдесят долларов в месяц» (I, 291). Здесь пока ничто как бы не относится к живому, конкретному человеку, поэтому и дом принадлежит «кому-то но фамилии Гэтсби». Реальный Гэтсби появляется по-настоящему в третьей главе, которая симптоматично начинается описанием почти сказочного изобилия. Особенно интересны первые два абзаца главы, в которых людей как бы нет, во всяком случае они совершенно не конкретизируются, «видны» лишь издали, а подчас «подменяются» неодушевленными атрибутами богатства. Так, автобус и «роллс-ройс» как бы сами возят, а моторные лодки как бы сами, без участия человека, режут воду, буксируя аквапланы, и мы даже не знаем, есть ли на аквапланах люди. Такое представление имеет, помимо скрытой, и вполне «реальную» причину: «общество», посещавшее Гэтсби, еще будет достаточно ясно охарактеризовано, когда Ник познакомится с ним ближе. Пока же нас как раз и занимают те атрибуты богатства, которые, казалось бы, сами по себе не имеют отношения к этике и не должны подвергаться нравственному суду.
Первый абзац главы, дающий общий вид «карнавала», который уже начался, а в то же время еще продолжает готовиться, заканчивается, совершенно, на первый взгляд, неожиданно, пассажем, переводящим тональность, условно говоря, из мажора в минор: «А в понедельник восьмеро слуг, включая специально нанятого второго садовника, брали тряпки, швабры, молотки и садовые ножницы и трудились весь день, удаляя следы вчерашних разрушений» (I, 318). Не менее интересен и следующий (второй) абзац главы, построенный но тому же самому принципу: «Каждую пятницу шесть корзин апельсинов и лимонов прибывали от фруктовщика из Нью-Йорка — и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом с черного хода в виде горы полузасохших корок».
Параллелизм в построении первого и второго абзацев главы буквально бросается в глаза и, конечно, имеет содержательное значение. Оба абзаца, как будто ничего не говоря собственно о «карнавале», заканчиваются параллельными многозначительными сообщениями о понедельнике, то есть — печальных последствиях «карнавала». Здесь уже лексика имеет выражено приземленный, «сниженный» характер, несет отрицательные неприятные коннотации.
Если бы Фицджеральд писал рассказ, выделяющий одну тему, даже когда затрагиваются другие, второстепенные, двойной параллелизм в начале главы оказался бы достаточным и без лишних слов позволил бы оттенить основную тему, то есть показать, о чем же написан рассказ. (Кстати говоря, подобный способ создания значительного подтекста весьма характерен для зрелого творчества писателя, хотя не является ни единственным, ни даже самым главным). Но «Великий Гэтсби» — не рассказ, а роман, тематика его, как мы имели возможность убедиться, сложна, и даже в пределах одной главы двойного параллелизма оказывается недостаточно для выявления того непростого содержания, которое должно быть доведено до читателя именно в этом пункте структуры произведения. Поэтому в третьем абзаце главы параллелизм вновь имеет место, но уже с некоторым «сдвигом» в обобщение, которого требует строгая организация повествования.
В первом абзаце «рассматривался» промежуток времени от субботы (воскресенья) по понедельник, во втором — от пятницы до того же понедельника. В третьем же абзаце параллель первому и второму оказывается только частичной. Условно говоря, мы имеем здесь лишь пятницу без какого бы то ни было упоминания о понедельнике: «Раза два или даже три в месяц на виллу являлась целая армия поставщиков. Привозили несколько сот ярдов брезента и такое количество разноцветных лампочек, будто собирались превратить сад Гэтсби в огромную рождественскую елку. На столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались окорока, нашпигованные специями, салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота» (I, 318). И так почти на полутора страницах.
Почему здесь отсутствует тема понедельника, выясняется тотчас же, когда обобщенное представление сменяется конкретной картиной, а смена эта происходит незамедлительно. Обобщение, начатое в третьем абзаце, завершается (через полторы страницы) словами: «Вечер начался». Здесь все еще только «половина» параллели, поэтому и кажется, что слово «карнавал» можно употреблять без всяких кавычек, а богатство, пробуждающее в своих ощутимых проявлениях только праздничное, чистое и радостное настроение, может расцениваться лишь положительно. Но следующий (после слов: «Вечер начался») абзац начинается с подчеркнутой конкретизации: «В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби..» (I, 320). В этой части и обнаружится пока еще неполное, но увиденное крупным планом, подлинное раскрытие того, что «пряталось» в подтексте первого и второго абзацев и резко усиливалось параллелизмом; а в конце описания конкретного на этот раз «карнавала» вновь звучит тема понедельника, отчетливо, но не слишком мрачно, поскольку до завершения разработки всей сложной тематики еще далеко, и в теме этой выделяются мотивы характерных для Ника колебаний: «Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Облатка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой» (I, 332).
Этот абзац, завершающий картину «карнавала», заслуживает пристального внимания. «Кошачий концерт» гудков настолько неприятен, что заставляет Ника уйти «прямиком по газону» (кстати, в оригинальном тексте это сообщается в одном предложении, а не в двух, и английское «I glanced back once» [77] — буквально: «Один раз я оглянулся» — скорее подчеркивает тот факт, что рассказчик оглянулся только однажды, чем, как это имеет место в русском переводе, вдруг возникшее желание оглянуться). Насыщено смыслом и сообщение, что ночь была «все так же прекрасна», хотя в карнавально освещенном саду Гэтсби уже царила тишина. Трудно яснее отделить красоту, в данном случае красоту природы, от «карнавала». Наконец, «пустота» в доме, еще усиленная «одиночеством» хозяина, которое, в свою очередь, подчеркивается «формальным» характером его прощального жеста (слово «формальный» почему-то опущено в русском переводе) — все это даже в экспозиции романа делает несомненным тройной параллелизм, таящий большой подтекст.
Не будем вдаваться в дальнейшие подробности. Достаточно обратиться к «заключению» романа, и станет ясно, что тема богатства — и в общем смысле, и в частности богатства Гэтсби — разрешается по-новому для романного творчества Фицджеральда. Не случайно в видении Ника бриллианты сверкают холодным огнем, встретившийся рассказчику на улице Том навсегда скрывается от читателя в ювелирном магазине (пошел покупать еще одно ожерелье?), а дом Гэтсби предстает перед Ником «огромной нелепой хороминой». Кстати, в оригинале («huge incoherent failure of a house» [78]) слово «failure» имеет значение «неудача», «неуспех», «провал», значение существенное, и очень жаль, что переводчик вынужден был пожертвовать им. Но так или иначе, ясно, что и рассматриваемый лейтмотив романа не только в очень большой мере обогащает его тематику и идеологию, но и значительно укрепляет всю его структуру.
Немалое значение для понимания идейного содержания и осмысления поэтики романа имеют лейтмотивы меньшего масштаба. Диапазон их звучания колеблется от двух-трех небольших эпизодов до нескольких глав, они, как правило, прочно связаны с основными лейтмотивами и могут входить в образную сферу произведения, а в структурном отношении выполняют важную архитектоническую функцию — как бы поддерживают и крепят главные композиционные опоры повествования. Говоря о таких частных лейтмотивах «Великого Гэтсби», приходится обращаться к его лексике, отдельным характерным словам (или тропам), которые естественно повторяются в речи Ника. Такое повторение вполне оправдано единством повествования — от лица одного рассказчика. Частные лейтмотивы превосходно дополняют «сценический» метод объективирования и могут оказаться незаменимыми в структуре отдельной главы. Попробуем посмотреть,— разумеется, лишь на отдельных примерах,— как они выглядят непосредственно в тексте. (Подобную попытку предпринимал упоминавшийся уже В. Дойно, внимание которого привлекли многочисленные параллели, столь заметные в романе. Критик рассматривает это явление как частность, в отрыве от всей сложной проблематики произведения. Упрощения при таком подходе неизбежны, но В. Дойно проявил наблюдательность и сделал несколько интересных замечаний. Он справедливо отмечает, например, любопытную особенность в разработке темы плохого вождения машины (Джордан, Том, Дэзи). Эту тематическую параллель нетрудно заметить, хотя критик и не считает ее очевидной. В. Дойно находит, что в подобных случаях Фицджеральд преследует три цели: углубление характеристики, формирование отношения читателя к событиям и основным темам, а также создание и контролирование единства и акцентировки [79].)
Подчас может показаться, что какое-то замечание рассказчика имеет самый общий характер. Основываясь на общих же соображениях, оно выглядит логично и естественно и как будто не нуждается в конкретном подтверждении. Может даже показаться, что такое замечание (суждение) более отражает настроение рассказчика, чем реальное положение дел, то есть представляется совершенно субъективным. Так ли это?
Завершая рассказ о последней встрече с Томом, Ник делает важный общий вывод о беспечности Тома и Дэзи, которые, натворив бед, убегали и прятались, «предоставляя другим убирать за ними» (разрядка моя.— Ю. Л.; I, 434). Выделенная часть данной Ником характеристики вовсе не случайна, как может показаться. Том и Дэзи действительно то и дело «предоставляют» разным людям убирать за собой. Когда, например, Том разбивает Миртл нос, он сам и не думает помочь ей. До конца главы даже имя его больше ни разу не упоминается. «Убирают» гости и пострадавшая. Этот и некоторые другие эпизоды того же плана как бы готовят основное и страшное в своей конкретности событие — Дэзи, как бы идя в фарватере мужа, убивает Миртл. Совершенно ясно, что погибшая женщина — жертва обоих супругов, а «убирают» вновь другие. Причем и в самом буквальном смысле — уносят тело, заворачивают его в одеяла и так далее, а Дэзи даже не останавливает машину. Том, несомненно, повинен в смерти Уилсона, но ему такая мысль и в голову прийти не может. Наконец, Дэзи и Том руками Уилсона убивают Гэтсби, и снова «убирают» другие, а Бьюкенены убегают и прячутся (уехали, не оставив адреса). Так обозначается не только общность судьбы Миртл, Уилсона и Гэтсби, но и типичность поведения Тома и Дэзи. И в буквальном, и в переносном смысле убирать за ними приходится другим.
Выделенное нами замечание Ника заставляет читателя мысленно вернуться ко всем эпизодам, в которых этот частный лейтмотив звучал раньше. Идейно и эстетически «нагружаются» некоторые, на первый взгляд, нейтральные сцены или эпизоды. Их объективное содержание не исчерпывает ни смысла их, ни значимости, так как обнаружившееся лейтмотивное качество выявляет наличие скрытого подтекста. Частный лейтмотив имеет тенденцию «расширяться». Пик в цитированном высказывании не говорит о Джордан, но сказанное, как нетрудно заметить, относится к ней тоже: «Как-то раз, когда мы с ней были в гостях в одном доме в Уорике, она оставила чужую машину под дождем с откинутым верхом, а потом преспокойно солгала...» (I, 334), предоставив, конечно же, убирать другим. Так Джордан незаметно связывается в нравственном и социальном отношении с Томом и Дэзи. Но и этим не исчерпывается смысл и значение темы. В звучании этого частного лейтмотива есть и осуждение «общества», которое посещало Гэтсби и вынуждало его нанимать второго садовника все для той же уборки. Наконец, в «заключении» последнюю в романе «уборку» производит Ник, стирая неприличное слово, написанное на ступенях того самого дома, тема которого оказалась столь важной. Возьмем другой пример.
Вот впечатления Ника, когда он впервые входит в гостиную Бьюкененов: «Легкий ветерок гулял но комнате, трепля занавеси на окнах,.. то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом» (I, 293). Кажется, это просто образное описание богатой гостиной, пол которой скрыт дорогим ковром, а потолок украшен нарядной лепкой. Такое красочное описание не нуждается ни в каких внутренних оправданиях, оно уместно само по себе, но в том-то и дело, что, кроме прямого, оно имеет существенный скрытый смысл. Может быть, читатель не сразу отдает себе в этом отчет или даже вовсе не замечает, что прозвучал новый лейтмотив, но в сознании его останутся соответствующие образы, и впечатление, которого добивается автор, в конце концов достигается. Действительно, в процитированном только что красочном описании незаметно подобраны атрибуты бракосочетания, вернее — свадебного ритуала. Потому-то и потолок похож именно на свадебный пирог, потому и ковер цветом напоминает вино. Почему это существенно?
Во-первых, свадебные мотивы в описании дома Бьюкененов не могут не звучать иронически. Ведь буквально тут же выясняется, что у Тома есть любовница и семейная жизнь Тома и Дэзи крайне неблагополучна. Этого достаточно для одной сцены, одного эпизода, но мало для художественной ткани произведения, и введенный таким образом содержательный мотив вскоре воспринимается уже как лейтмотив. В следующий раз «метафорический» пирог упоминается при описании дома, в котором Том встречается с Миртл. Происходит это во второй главе. Здесь же, какие бы планы ни строила, что бы ни думала Миртл, выясняется полная, принципиальная невозможность ее брака с Томом, и на этот раз речь идет уже не о свадебном пироге. Наконец, свадебные мотивы неожиданно, но естественно возникают в сцене решительного объяснения, и очевидное ироническое звучание их как бы замыкает лейтмотив, вновь возвращая мысль читателя к соответствующему месту в описании дома Бьюкененов.
Еще один интересный пример находим в сопоставлении слухов и легенд, окутывавших Гэтсби, с тем, что он сам думал о себе, и с действительностью. Когда Ник появляется на приеме у Гэтсби, он невольно слышит россказни о хозяине, еще не успев представиться ему. И в дальнейшем, пока правда не выяснилась, слухи возникают снова, и всякий раз — не просто естественно, но в связи с развитием основных сюжетных линий, в связи с крупными структурами романа. Основной слух, который доходит до Ника в третьей главе, формулируется так: «Мне говорили, будто он когда-то убил человека» (I, 322). Правда, тут же выдвигаются и другие фантастические предположения, но торжествует слух, что Гэтсби — убийца. Этот мотив «со значением» возникает вновь в кульминационном эпизоде решительного объяснения.
В начале четвертой главы снова поднимается тема слухов: «Он бутлеггер,— шептались дамы, попивая его коктейли и нюхая его цветы.— Он племянник фон Гинденбурга и троюродный брат дьявола, и он убил человека, который об этом проведал. Сорви мне розу, душенька, и налей, кстати, еще глоточек вон в тот хрустальный бокал» (I, 336). Здесь перечислены основные слухи о Гэтсби, и они не столько даже отражают таинственность его личности, сколько, как ясно видно из конструкции и содержания абзаца в целом, иронически характеризуют «общество», посещавшее приемы, готовят «каталог гостей».
В интересующем нас плане все эти слухи имеют, кроме отмеченных, одну любопытную и не очень заметную особенность. Как они ни чудовищны, они справедливы или почти справедливы, но «не так», как это представляется «обществу». Гэтсби в самом деле убил человека, он даже убил многих людей, но сделал это на основании, которое общество сочло вполне законным, ибо люди были убиты им во время войны, за что он и получил множество наград. Гэтсби, конечно, не был племянником фон Гинденбурга, но, право же, такое родство ничуть не менее вероятно, чем родство с самим богом, сыном которого Гэтсби считал себя совершенно серьезно. Наконец, в начале шестой главы снова поднимается знакомая тема: «С его именем связывались фантастические проекты в духе времени...» (I, 366). И здесь, как в остальных случаях, есть существенный иронический подтекст, ибо любые «фантастические проекты в духе времени» (В оригинале, кстати, «contemporary» - «современные») — в романе даются и примеры таких проектов — бледнеют перед фантастическим «современным» проектом, который Гэтсби действительно хотел осуществить — с опозданием лет в двести. Скрытая реальная аналогия основных слухов о Гэтсби составляет частный лейтмотив, наделенный — в самом своем ироническом звучании — серьезным и важным смыслом. Читателю, вероятно, нетрудно будет обнаружить и другие примеры частного лейтмотива — замечательного средства художественного отображения, блестяще использованного Фицджеральдом в анализируемом романе.
Продуманная, художественно целенаправленная архитектоника отмечает каждую из девяти глав романа. М. Каули не без основания констатирует, обсуждая эту книгу: «Каждая глава состоит из одной или более драматических сцен, иногда с интересными пассажами прямого повествования. «Сценический» метод является тем методом, которому Фицджеральд научился, вероятно, у Эдит Уортон, а она, в свою очередь, научилась ему у Генри Джеймса» [80]. Не касаясь пока что вопроса о влияниях, рассмотрим архитектонику глав произведения.
Структура всех глав романа весьма сложна. Как уже говорилось, помимо «сцен», то есть «живых» картин и эпизодов в условном настоящем, в каждой главе есть отступления в прошлое и прямое повествование. Сочетание этих элементов непременно образует эффект, который не может быть объяснен однозначно. Это сочетание зачастую варьируется, причем всегда «со значением». Живые картины выглядят объективными в немалой степени потому, что в них постоянно большое место занимает диалог, который непременно сопровождается (или включает в себя) типичными и точными деталями. Эти детали, как правило, настолько убедительны, что как бы сообщают свое «реальное» качество даже прямому повествованию, отчасти «лишая» его субъективности — прямое повествование часто «комментирует» живую сцену в целом или ее детали. Отступление в прошлое также может выполнять функцию своеобразного комментария, но иногда «разрывает» живую сцену, внося в нее скрытые мотивы, образуя подтекст. Кстати, и диалог, объективирующий повествование, также мастерски используется для создания подтекста. Некоторые архитектонические особенности глав лучше рассматривать вместе с повествовательной перспективой, но при всех условиях необходимо отметить, что и отдельные элементы структуры глав, и сочетания этих элементов неизменно полифункциональны. Собственно «техническая» функция никогда не выступает как доминирующая Архитектоника романа, таким образом, насыщается идейным значением, происходит как бы сращение формальной и содержательной сторон, и в непростых комбинациях структурных элементов «просвечивает» идейная направленность произведения, в котором разрабатывается несколько взаимосвязанных тем. Сказанное отчасти иллюстрировалось выше, но некоторые моменты заслуживают особого внимания.
Заметно, что при всей структурной сложности некоторые главы существенно отличаются в этом отношении от других. Так, первая глава начинается «вступлением», которое относится не только собственно к ней, но и ко всему роману. Это подчеркивается архитектонически, так как в конце главы рассказчик оказывался как бы в середине действия: только что он собирался заговорить с Гэтсби, но тот мгновенно исчез, и Ник — «снова был один в неспокойной темноте» (I, 304). Дальнейшее развитие действия здесь просто напрашивается. Создается впечатление, что глава не завершена. Не сказано, например, что Ник уходит спать, что так или иначе день, столь насыщенный впечатлениями, завершился, не намечена пауза. Если бы Фицджеральд вообще заканчивал главы подобным образом, едва ли стоило бы делать те выводы, которые нам в данных обстоятельствах кажутся наиболее логичными, но в первой части романа такая особенность встречается только раз, оттеняя значение «вступления» для всего произведения. Действительно, в построении второй и третьей глав обнаруживается иной, общий для них, принцип. Живые сцены здесь как бы обрамляются прямым повествованием, начинающим и заканчивающим главу. Вторая глава начинается описанием Долины Шлака, а заканчивается прямым сообщением, относящимся к одному лишь рассказчику, сообщением, настолько явно «заключительным», что это отчетливо видно и по краткой цитате: «Потом я лежал на скамье, в промозглой сырости Пенсильванского вокзала и таращил слипающиеся глаза на утренний выпуск «Трнбюн» в ожидании четырехчасового поезда» (I, 317). Третья глава, как было показано по другому поводу, начинается с общей характеристики приемов Гэтсби и завершается, после сцены конкретного приема, рассказом Ника о том, как он жил те несколько недель, которые разделяли описанные в первых трех главах вечера. Объем прямого повествования, заключающего третью главу, не позволяет цитировать, но содержательное значение его не вызывает сомнений. Кроме того, в текст вкраплены сценические, объективирующие детали, что и дальше неизменно делается в аналогичных случаях.
Итак, архитектоника первой главы, помимо всего прочего, выделяет «вступление», подчеркивает его особую роль. Те или иные из намеченных во «вступлении» мотивов звучат в дальнейшем, по-разному сочетаясь друг с другом, но только в «заключении» они не просто звучат все вместе, а и находят подлинное разрешение, причем на новом уровне. Идейная и формальная «перекличка» начинающих и завершающих произведение пассажей неоспоримо свидетельствует об их единстве, о наличии того охватывающего все повествование «кольца», о котором уже приходилось говорить. В девятой главе появление «заключения» готовится строгой архитектонической последовательностью. Глава начинается прямым повествованием, оживленным небольшими сценически представленными микроэпизодами, затем идет сцена, густо окрашенная прямым повествованием, после чего сцена, то есть непосредственное действие, занимает доминирующее место, но показательно перебивается важным отступлением в прошлое, также окрашенное сценическими деталями. Две сцены, идущие после этого и прямо предшествующие «заключению», оказываются связанными лишь наличием в обеих сходных этических мотивов: последняя встреча Ника с Джордан логически вытекает из развития соответствующей сюжетной линии, но последняя встреча его с Томом, как подчеркивается в тексте, совершенно случайна. Возникает некоторая отрывочность, чрезмерная «самостоятельность» отдельных эпизодов в конце главы. Эта особенность архитектоники ранее в романе не встречалась. Она в значительной мере свидетельствует об «эпилоговом» характере главы, но в то же время является следствием сложного переплетения основных сюжетных линий и разработки нескольких тем первостепенной важности. Как бы несвязанные, эпилоговые эпизоды в конце последней главы и готовят «заключение», в котором осуществляется насыщенный смыслом переход от конкретного к общему и к новому, социально-историческому, философскому уровню.
Заметим сразу же, что «заключение» романа и даже последнее отступление в прошлое, а также сцены «эпилоговых» встреч Ника с Джордан и Томом откровенно эмоциональны. Эмоции, чуть ли не затопляющие эти эпизоды, принадлежат Нику. Если читатель и не разделяет их полностью, то, во всяком случае, не может не понимать их. Говорить обо всем этом приходится, поскольку в характере «эпилоговых» эпизодов, и особенно «заключения», столь сильно окрашенных субъективно, отражается характер оригинальной разновидности жанра, созданной Фицджеральдом.
*
Лирический роман писателей «потерянного поколения», как правило, вовсе не нуждался в эпилоге. В таком романе разрабатывалась одна основная тема, автор и повествователь в нем максимально сближались, время действия оказывалось подчеркнуто «сиюминутным», а в самом действии, в судьбе героя, даже если автор не «прятался» за него, разработка темы находила и собственно сюжетное и идейное завершение. Иначе обстояло дело с крупным эпическим романом, даже если в нем затрагивались типичные темы «потерянного поколения». «Всеведущий» автор мог быть более или менее незаметен в повествовании, пока шло естественное развитие сюжетных линий, но в эпилоге он появлялся «собственной персоной», чтобы сообщить о судьбах своих героев в дальнейшем и пояснить — от своего имени,— какие нравственные и (или) философские уроки содержатся в поведанном. Время в таком романе никогда не бывает только настоящим, «сиюминутным», оно отражается в движении, протяженности, непрерывности, и самое появление эпилога только подчеркивает это. Так получаются два основных варианта (разумеется, речь только о 20-х годах XX вв., и мы не выходим за рамки критического реализма): либо эпилога нет совсем, поскольку в нем нет надобности, либо эпилог выводит на авансцену «всеведущего» автора.
В романе «Великий Гэтсби» нет собственно эпилога, но есть «эпнлоговыe» эпизоды и «заключение». Однако автор в них так и не появляется. Собственно, «эпилоговыми» и сцены эти, и «заключение» могут быть названы лишь с некоторой долей условности. Нравственные и социально-исторические выводы делает один из главных персонажей, завершая тем самым развитие своей сюжетной линии и прямо указывая на связь ее со второй основной сюжетной линией. Особенный характер имеет в таком «эпилоге» рисунок времени. Эпилог объективного, аналитического романа дает — относительно собственно действия — проекцию в будущее. В «эпилоге» «Великого Гэтсби» такая проекция возникает лишь постольку, поскольку речь идет о Томе, выступающем в данном случае в качестве представителя социальной группы, и, что гораздо важнее, поскольку можно говорить об «открытости» романа. Реального будущего (относительно завершения собственно действия) в произведении нет. Основная же «эпилоговая» направленность времени, уводя в прошлое, а не в будущее, подводит к тому моменту условного «настоящего», который завершает развитие одной из основных сюжетных линий и объединяет их все. «Эпилог» в «Гэтсби» отличается тем, что оказывается неразрывно связанным с непосредственным действием, характерных черт которого он отнюдь не лишен. В указании на связь сюжетных линий по-своему утверждается «связь времен», но одновременно и выступает наглядно особенный, промежуточный характер «эпилога», еще раз обнаруживая жанровую необычность.
Кроме первой и последней глав, определенными особенностями структуры отличаются и некоторые другие. Если вторая и третья начинаются и заканчиваются прямым повествованием, то четвертая глава, подобно первой, представляет в этом отношении показательное исключение. Она тоже начинается прямым повествованием, но заканчивается четырьмя сценами (впервые так много в одной главе). Это понятно, поскольку экспозиция завершилась и непосредственное действие резко активизируется. Но последняя сцена главы представляет особый интерес. Она содержит элемент завершения, так как в ней определяются отношения Ника и Джордан, но она же и оставляет Ника, если рассматривать его отдельно от Джордан, в середине действия. В первой главе было почти то же самое, но там в основном таким способом выделялось «вступление». Здесь же заключающий главу эпизод имеет двойственный характер, и относительная завершенность его связана с определением одной ситуации или с этапом развития одной сюжетной линии, а относительная незавершенность — с наметившейся интенсивностью собственно действия.
В самом деле, до сих пор в конце каждой главы как бы делалась специфическая пауза. Если первая глава и заканчивается, так сказать, посреди действия, то следующая начинается прямым повествованием, и нет видимой связи между тем, что Ник остается один в темноте (завершение первой главы), и описанием Долины Шлака при дневном свете (начало второй главы). Точно так же нет прямой связи между заключением второй главы (Ник на вокзале ждет поезда) и началом третьей (общая характеристика приема у Гэтсби). В конце третьей главы даже специально подчеркивается временная дистанция между описанными в этих главах событиями. Окончание четвертой и начало пятой глав паузой не разделяются (или почти не разделяются: расстояние во времени — несколько часов, которые Ник провел с Джордан; начало пятой главы возвращает нас к рассказчику, едва он расстается с девушкой). Это впервые в романе, что объясняется характером и содержанием действия, интенсивное развитие которого вполне логично ведет к центральной главе произведения.
Пятая глава, имеющая особое содержательное значение, отличается, конечно, от всех остальных и структурой. В первых четырех главах живой сцене (сценам) неизменно предшествовало прямое повествование, и, таким образом, как бы вводилась объективированная сцена (эпизод), развивающая действие. Мы видели, что в пятой главе нет такого «введения», и вся глава состоит из трех сложных сцен, причем последняя из них, сцена встречи Гэтсби и Дэзи, «разрывается» на две части подробно обсуждавшимся отступлением о доме. И «разрыв», и упоминавшаяся статичность сцены как бы противостоят «действенному» характеру главы. Если не говорить об отступлении в прошлое дома, элементы прямого повествования представляют собой здесь лишь отдельные небольшие вкрапления во все три сцены. Такая структура главы в целом выполняет, помимо прочего, ту же функцию, что и отступление в прошлое, то есть предопределяет трагедию. И здесь форма как бы срастается с содержанием, обретая особую выразительность.
Ни один роман не может быть на всем протяжении одинаково «напряженным». В противном случае его, вероятно, невозможно было бы читать. Неудивительно, что крайне напряженная пятая глава сменяется более спокойной шестой, внешняя структура которой напоминает строение второй и третьей («экспозиционных») глав. Затем, в седьмой главе, напряжение вновь нарастает, и содержание главы (кульминация) находит полное соответствие в ее архитектонике. Даже «введение» здесь как бы переходит в сцену, и элементы того и другого чередуются, пока сцена не вытесняет все остальное. И дальше, до конца главы, одна сцена сменяет другую, причем даже в реконструкции ответвления действия прямое повествование проявляет тенденцию обрести характер сцены.
Особый случай представляет собой нарушение последовательности действия при отступлении в прошлое героя. Рассмотрим один такой случай. О спаде напряжения в начале шестой главы уже говорилось. Здесь появляется отступление, частично освещающее истинное прошлое Гэтсби вплоть до конца эпизода с Дэном Коди. Заключая это отступление, Ник говорит: «Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь — в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему — или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании,— пока Гэтсби, так сказать, переводит дух,— чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могли возникнуть» (I, 369).
В каждом из трех предложений, составляющих процитированный абзац, содержится исключительно важная информация. Ник сообщает, почему приводит более поздний рассказ Гэтсби—«в противовес всем нелепым слухам». В следующем предложении уточняет, когда же Гэтсби рассказал все это ему — «в дни больших потрясений». Наконец, в третьем предложении Ник объясняет, почему «противовес» нелепым слухам появляется именно здесь — в повествовании наступает короткая пауза (тот самый спад). И тут же возникает вопрос, является ли эта пауза достаточным основанием, чтобы именно здесь раскрыть часть действительной истории Гэтсби. Сомнение вызывается как раз тем, что очень не просто заметить едва намеченную и превосходно скрытую связь этого эпизода главы со следующим. Может даже показаться, что такой связи совсем или почти нет.
Если внимательно присмотреться ко всей структуре романа и связать ее с его идейной направленностью, то окажется, что для подобного отступления в книге просто нет другого места, а изложить соответствующую информацию абсолютно необходимо.
Мы уже видели, как в произведении представлен образ Гэтсби. Совершенно ясно, что дымка таинственности, окутывающая героя, должна рассеяться как можно позже. «Спад» же в шестой главе обусловливает ту, как оказывается, последнюю паузу, которой Ник может воспользоваться: в седьмой главе уже дается и кульминация, и развязка. «Противовес» слухам позволяет лучше понять Гэтсби в кульминационной сцене решительного объяснения. Но этого мало. Мы находим здесь последний— при жизни Гэтсби — рассказ о нем одном. Непосредственно перед кульминационной седьмой главой обоснованно звучит тема не одного Гэтсби, но Гэтсби и Дэзи. В восьмой главе читаем: «Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности и своих скитаний с Дэном Коди — рассказал потому, что «Джей Гэтсби» разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. Вероятно, в тот час он не остановился бы и перед другими признаниями, но ему хотелось говорить о Дэзи, и только о Дэзи» (I, 408). Психологически такое желание вполне понятно: в Дэзи, в безумной надежде, что она подаст спасительный знак, сосредоточилось в этот момент все, что привязывало Гэтсби к жизни. Вот Ник и отделил тему самого Гэтсби от темы Гэтсби и Дэзи (хотя и Гэтсби, и Нику, и читателю уже ясно, что это — единая и цельная история), а заодно «заполнил паузу» и разбил слишком длинное отступление на соразмерные — даже ритмически—части. Такое разделение одного рассказа находит объяснение и в плане перспективы повествования, но об этом — отдельно.
Анализируя третью главу, мы уже видели, как используется архитектоника для создания насыщенного значением сложного параллелизма, включающего, в конце концов, и собственно сцену. Так образуется крупный структурный «блок» внутри главы. Можно, пожалуй, утверждать, что вся она состоит из двух частей: этого «блока» и как бы не связанного с ним пояснения Ника о жизни, которую он вел все это время. Внешней связи между этими двумя частями действительно нет, и рассказчик объясняет появление второй из них необходимостью рассеять ошибочное впечатление, будто он «только и жил тогда что событиями этих трех вечеров» (I, 332). Но мы уже знаем, что в сложной художественной структуре «Гэтсби» преобладает полифункционалыюсть, и не склонны полностью удовлетвориться подобным объяснением. В самом деле, отсутствие связи между двумя частями одной главы имеет и содержательное значение: первая часть почти целиком посвящена Гэтсби, в ней превалирует его сюжетная линия; вторая часть в такой же мере «принадлежит» Нику. Пока что мы не вышли из «экспозиции»; связь обеих главных сюжетных линий, выявляющаяся прежде всего в параллели пар Гэтсби — Дэзи и Ник — Джордан, обнаружена не полностью. Это и отражается в отсутствии внешней связи между частями главы.
Можно было бы рассмотреть в этом плане и все остальные главы, но едва ли это необходимо. Внутренняя структура каждой главы романа и вся его мелкая архитектоника полифункциональны. Структура всей книги непосредственно отражает существенные содержательные моменты или не менее существенную тональность, а содержание, в свою очередь, находит прочную опору в структуре. Это единство и обеспечивает в большой мере высочайшую художественность анализируемого произведения искусства.
Несколько иной угол зрения возникает при рассмотрении проблем, связанных с жанровыми и художественными особенностями романа, когда мы обращаемся к созданной Фицджеральдом повествовательной перспективе. Вопрос о повествовательной перспективе в романе «Великий Гэтсби» и связанная с ним проблема литературных влияний, отразившихся в специфической форме произведения, рано привлекли внимание критики. Уже летом 1926 г. Г. Сельдес опубликовал статью, в которой, высоко оценивая «Гэтсби», писал, между прочим: «Форма его вновь является производным от Генри Джеймса через миссис Уортон, и есть также каденции прямо со страниц Конрада; но я чувствую, что Фицджеральд, наконец, сделал заимствования собственным достоянием и они нигде не уменьшают жизненность его произведения» [81].
Во многом критик был прав, литературное чутье не обмануло его, и неудивительно, что исследователи творчества писателя создали нечто вроде своеобразной традиции, отмечая, с одной стороны, исключительно удачный выбор повествователя, а с другой — разномасштабные влияния, сказавшиеся в этом выборе. В начале 30-х годов появились работы, пытавшиеся установить характерные черты романа XX века, и выяснилось, что проблема повествовательной перспективы сама должна рассматриваться в перспективе более широкой. Так, Д. У. Бич считал наиболее впечатляющей чертой «английского романа от Филдинга до Форда... исчезновение автора» [82]. Он же связывал это явление с эстетикой Флобера, отмечая, что Джеймс понял всю важность отбора фактов и выбора точки зрения на них, а Конрад внес много нового в разработку повествовательной перспективы (смена перспективы, нарушение хронологии событий, то есть отход от последовательности, ассоциируемой с наличием «всеведущего» автора, множественная точка зрения) [83].
Несмотря на то, что очень многие более поздние критические высказывания относительно затронутой проблемы идут в основном в фарватере Г. Сельдеса и Д. У. Бича, некоторые критики, анализируя роман Фицджеральда, сделали существенные замечания и уточнения.
Г. Д. Пайпер находит, что «Великий Гэтсби» отражает влияние не только Конрада и Уортон, но и Кэсер [84]. Ф. Д. Хоффман, проводя линию Джеймс — Конрад — Форд — Фицджеральд, выделяет роман Форда «Хороший солдат» как источник непосредственного влияния, отразившегося в книге «Великий Гэтсби» [85]. М. Каули утверждает, что в отношении формы «Гэтсби» продолжает традицию Джеймса, и даже считает,— на наш взгляд, вполне основательно,— что имя Дэзи заимствовано из известной одноименной повести Генри Джеймса «Дэзи Миллер» [86].
Особенный интерес представляет наблюдение Ч. Т. Сэмюэлса; здесь необходимо небольшое предварительное пояснение. Т. С. Элиот еще в 1925 г. написал Фицджеральду по поводу «Гэтсби» очень лестное письмо, в котором, между прочим, говорилось: «...мне кажется, что это первый шаг, сделанный американской литературой после Генри Джеймса» [87]. Элиот не уточнил, в чем "конкретно он видит этот шаг, и критики не прекращают попыток разгадать его мысль. Так, Ч. Т. Сэмюэлс пишет, что Ник в процессе изложения истории Гэтсби изменяет отношение к нему и к своей собственной жизни и это усовершенствование джеймсовского использования рассказчика могло вызвать утверждение Элиота» [88]. Трудно полиостью согласиться с критиком, считающим, что только с пером в руках Ник осмысливает происшедшее и делает выводы. Зато вполне справедливо, по нашему мнению, что именно новшество в использовании повествовательной перспективы побудило Элиота сделать столь часто обсуждающееся замечание.
Из советских исследователей наиболее подробно технику романа, и в частности проблему повествовательной перспективы в нем, рассматривает А. Н. Горбунов. Ему принадлежат некоторые важные положения. Во-первых, он связывает роман не столько с традицией Джеймса, сколько вообще «с „послефлоберовским" реализмом» [89], выделяя влияние Конрада. В эстетике самого Флобера критик акцентирует принцип бесстрастной объективности. Значение Ника в романе и определяется исследователем потребностями «флоберовской объективности», а также тем, что Ник производит отбор фактов и рассказывает лишь о самом главном, причем такая концентрация действия ведет к его единству [90].
А. Н. Горбунов во многом прав. Фицджеральд действительно высоко ценил искусство Флобера, о чем есть вполне достаточно свидетельств. Так, в известном письме Томасу Вулфу Фицджеральд противопоставляет Флобера Золя, утверждая, что именно Флобер создавал подлинное и долговечное искусство. Бессмысленно было бы отрицать непосредственное влияние эстетики Флобера на зрелое творчество Фицджеральда-романиста. Но нельзя забывать и того, что «послефлоберовский реализм» представляли прежде всего Генри Джеймс — в Америке, Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд — в Англии. Им принадлежат те конкретные открытия в области повествовательной перспективы, радикально усовершенствовать которые выпало на долю Фицджеральда.
Этому вопросу уделяется так много внимания не только потому, что повествовательная перспектива в значительной мере определяет оригинальность той разновидности жанра, которую мы видим в романе «Великий Гэтсби», но и потому, что при всем обилии критической литературы, так или иначе затрагивающей этот вопрос, он до сих пор не может считаться решенным. Как ни популярен ныне Фицджеральд у критиков, они упорно тратят значительно больше трудов на установление и конкретизацию испытанных им влияний, — что, конечно, тоже очень важно, — чем на исследование его новаторства. Пожалуй, можно считать решенным вопрос о том, чем Фицджеральд обязан Флоберу, Генри Джеймсу, Эсер, Уортон, Конраду и Форду. Тем не менее, если говорить о повествовательной перспективе, еще остается определить, чем он от них отличается. Не будем останавливаться на эстетике Кэсер и Уортон, имеющей в интересующем нас плане явно второстепенное значение. Рассмотрим кратко проблему повествовательной перспективы у Джеймса, Конрада и Форда, используя, конечно, выводы советских и зарубежных ученых.
Характеризуя особенности романа Джеймса, Р. П. Блэкмур совершенно справедливо пишет: «Для того чтобы осуществить свою цель, он прежде всего освобождается от вездесущего автора; прямо, от своего собственного имени ему вторгаться в действие не позволено; сюжет всегда дастся через ощущение какого-либо вымышленного героя, либо группы персонажей, так что мы видим или ощущаем ограничивающую силу чьего-либо духовного опыта как инструмент, посредством которого нам открывается смысл рассказываемого» [91]. Итак, выделены все те же принципы объективности и отбора. Заметим сразу, что при всех художественных выигрышах, достигающихся посредством «устранения» автора, повествование от имени одного из действующих лиц и даже группы их чревато опасностью сузить угол зрения. Исключительное значение приобретает, таким образом, личность рассказчика. Два момента здесь важнее остальных. Во-первых,— это касается содержательной стороны, — очень важно социальное, идейное «наполнение» образа рассказчика, причем важно для выявления социально-исторической масштабности всего произведения. Во-вторых, — поскольку речь о формальной стороне, которая неразрывно связана с содержательной, — важно место рассказчика в развитии сюжета, роль его в действии.
Сделаем сразу же необходимую оговорку. Т. Бернем утверждает, что Ник не вполне достоверен, так как вряд ли человек его профессии, происхождения и жизненного опыта может оказаться способным дать такие блистательные пассажи, какие украшают каждую страницу книги [92]. Упреки критика сводятся в конечном счете к тому, что роман слишком хорошо написан. Есть ли здесь существенное нарушение? Другими словами, делают ли великолепные пассажи, на которые так щедр Ник, его столь же, или хотя бы в меньшей мере, недостоверным, как если бы он заговорил на жаргоне грузчика? Если правильно оценить личность Ника, ответ, нам кажется, должен быть отрицательным. Мы верим, например, в Татьяну Пушкина, хотя только сам поэт мог написать «ее» замечательное письмо. Верим потому, что в письме не нарушена характеристика внутреннего мира девушки, ее духовного облика. Татьяна, следовательно, не «выходит» ни из роли, ни из стиля. Когда автор «передоверяет» повествование персонажу, он добивается определенных художественных целей, среди которых достоверность далеко не последняя, так как введение рассказчика как раз и помогает обеспечить непосредственный «контакт» читателя с действием [93]. В то же время нельзя забывать и об условности любого произведения искусства. Оно отображает жизнь, но никогда не бывает и не может быть идентично своему предмету. Если бы Фицджеральд написал роман хуже, чем он написан, достоверность Ника, конечно же, не увеличилась бы, а уменьшилась, да и критики едва ли стали бы обсуждать такие вопросы в связи со слабо выполненным произведением.
Эстетика Генри Джеймса не была, как известно, неизменной на протяжении его творческого пути, но поскольку речь идет о роли повествователя в его произведениях, можно, вероятно, сделать достаточно общие заключения о художественных целях писателя и тех особенностях характера рассказчика, которые здесь существенны. Конечно, важнейшей целью Джеймса, когда он «передоверял» повествование, было «устранение» автора, достижение «флоберовской» объективности. Кроме того, фактор обязательного отбора становится сильным орудием организации повествования, его всесторонней законченности. Эти основные моменты отнюдь не исключают известного разнообразия частных целей. Рассказ от первого лица может понадобиться и для создания контраста, тем более впечатляющего, что создается он «без помощи автора», как бы сам собой. Иногда рассказчик наделяется профессией и дарованиями, наиболее подходящими для раскрытия темы произведения, и так далее. В любых вариантах введение рассказчика, «привязанного» к сюжету, по-своему углубляло и делало более убедительной психологическую характеристику и его самого, и других персонажей произведения.
В лучших образцах своего творчества Джозеф Конрад исходил из сформулированной им самим задачи: «Я поставил себе целью силой печатного слова заставить вас слышать, заставить вас чувствовать, и, наконец, прежде всего — заставить вас видеть» [94]. Имея в виду именно эту общую цель, он и вводил в свои романы и повести рассказчика. Конрад кое в чем усовершенствовал технику Джеймса. В частности, он начал прибегать к нарушению последовательности изложения, чтобы придать ему большую достоверность. Тем не менее рассказчик Конрада в принципе мало отличается от рассказчика Джеймса. М. Соколянский правильно определяет основное в творчестве Конрада: «...психологическая точность характеров в лучших книгах писателя поражает нас и сегодня. К тому же в этих книгах доминирует морально-этическая проблематика» [95]. Далее исследователь делает важный вывод: «Филигранное искусство психологического анализа в произведениях Конрада несет на себе печать поиска. Это поиск новых композиционных возможностей, позволяющих изображать героев и события не только с точки зрения всеведущего, знающего, какой будет развязка, повествователя, но часто также и с точки зрения свидетеля описываемых событий — одного из персонажей (как, например, капитан Марло). Это и поиск новых средств речевой выразительности, снискавший Конраду еще прижизненную славу Мастера» [96].
В отношении повествовательной перспективы то же самое, пожалуй, можно сказать и о рассказчике Форда Мэдокса Форда. Наиболее характерный и талантливый пример находим в упоминавшемся уже романе «Хороший солдат» (1915). Форд усовершенствовал технику повествования от первого лица. Рассказчик в романе «Хороший солдат» не просто нарушает хронологию событий, чтобы придать своему рассказу большую достоверность, но и фиксирует на этом внимание читателя. По мнению Г. Грина, читатель в таком случае ассоциирует собственную память с памятью рассказчика. Именно в этом он видит усовершенствование Фордом техники Конрада [97]. Сюжет романа связан с судьбами нескольких основных персонажей, а рассказчик — один из них. Это важный момент, так как нередко повествователь выступает больше в качестве наблюдателя, чем действующего лица. Поскольку речь идет о повествовательной перспективе, нетрудно заметить некоторое сходство между занимающими нас романами Фицджеральда и Форда. Английский писатель мастерски разработал перспективу повествования, а рассказчик в «Хорошем солдате» занимает, как упоминалось, центральное сюжетное положение. Рассмотрим некоторые существенные черты этого персонажа.
Прежде всего, вероятно, следует указать на определенную пассивность рассказчика. По сюжету, происходящие события касаются его непосредственно и они достаточно серьезны, но с его стороны все время наблюдается несколько странная бездейственность. Даже когда он действительно влияет на события, это происходит помимо его воли и отнюдь не в результате его активности. Он как бы становится орудием провидения или случая, которому достаточно самого факта присутствия рассказчика в нужном месте. Почти весь жизненный опыт повествователя обусловлен событиями, о которых он рассказывает, и все же он не может сделать никаких выводов. Если он и меняется под влиянием событий, то сам этого не замечает, а главное — перемены эти слишком субъективны и малозначительны, чтобы о них можно было говорить серьезно. Когда печальная правда начинает проглядывать сквозь благополучную видимость, удивление его переходит в какую-то растерянность, и в этом состоянии он остается до самого конца.
За несколько страниц до окончания повествования находим следующее симптоматичное признание рассказчика: «Вот все это и кончилось. Ни один из нас не получил того, чего действительно хотел. Леоноре был нужен Эдвард, а достался ей Родни Бейхем, приятная, впрочем, овечка. Флоренс было нужно Брэншо, но купил его у Леоноры я. Мне оно, в сущности, не было нужно; больше всего мне хотелось перестать быть сиделкой. Так вот, я — сиделка. Эдварду нужна была Нэнси Раффорд, а досталась она мне. Только она сошла с ума. Это странный и фантастический мир. Почему люди не могут получить то, что им нужно? Все было в наличии, чтобы удовлетворить каждого; но каждому досталось что-то не то. Может быть, вы можете разобраться в этом; мои возможности это превышает» [98].
Но здесь важна и намеченная тенденция к широкому обобщению. Чуть ниже рассказчик признается, что не знает, есть ли где-нибудь нормальная жизнь, или повсюду царят трагедии, подобные тем, которые постигли героев романа. Тенденция к обобщению, не раз проявляющаяся в произведении, обнаруживается в первой же главе. Это, конечно, не случайно. Форд, очевидно, чувствовал, как в мире нарастает неблагополучие, обернувшееся в конце концов мировой войной. Вероятно, будь роман написан после войны, в нем было бы много больше определенности, а социальные мотивы были бы выражены значительно четче. Во всяком случае это можно сказать о лучших произведениях, созданных писателем в 20-х годах. Основной недостаток книги «Хороший солдат» в том и состоит, что социальная основа описанных в ней трагических событий слишком узка, а характеры основных действующих лиц недостаточно обусловлены. В них, если можно так сказать, слишком много субъективного. Отсюда же и относительная слабость образа рассказчика. Узость, невыразительность социального замысла произведения определяет и второстепенное значение его в литературе XX в.
Тенденция к лиризации прозы, как известно, наметилась в новейшей литературе на рубеже XIX и XX вв., задолго до первой мировой войны. Она была связана в первую очередь с попытками найти средства углубленного психологического анализа, поскольку высочайшие достижения этого рода в форме объективной прозы к началу века стали уже свершившимся фактом. Но большую социальную «опору» новая лирическая проза получила только в творчестве писателей «потерянного поколения». Так наметилось своеобразное несоответствие: казалось, развитие художественной формы опережает движение действительности. Мы отнюдь не пытаемся принизить значение Форда, Конрада или Джеймса. Но ведь не случайно и то, что в их творчестве прежде всего выделяют поиски, связанные с углублением психологического анализа, и нравственную проблематику. В том-то и дело, что проблематика эта более относится к нравственной, чем к социальной сфере. Связи здесь далеко не всегда вполне четки и обязательны, социальная критика как бы периферийна, хотя ни одному из названных писателей не откажешь ни в большом даровании, ни в остро критическом отношении к действительности. Объясняется это многими факторами, по, нам кажется, прежде всего временем.
Если подходить к вопросу с этих позиций, то можно сказать, что творческая зрелость пришла к Фицджеральду-романисту в очень удачный момент. Когда писатель приступил к «Великому Гэтсби», все необходимые предпосылки для создания качественно новой, оригинальной и плодотворной повествовательной перспективы уже нашли конкретное воплощение в так называемом романе отбора, отличавшемся в первую очередь строгой организацией. Понять характер открытий Фицджеральда в области повествовательной перспективы помогают положения М. М. Бахтина. Так, ученый писал: «Эта особость, это отделение условного автора или рассказчика от действительного автора и от нормального литературного кругозора может быть различной степени и различного характера. Но во всяком случае этот особый чужой кругозор, особая чужая точка зрения на мир привлекается автором ради ее продуктивности, ради се способности, с одной стороны, дать самый предмет изображения в новом свете (раскрыть в нем новые стороны и моменты), с другой стороны, осветить по-новому и тот «нормальный» литературный кругозор, на фоне которого воспринимаются особенности рассказа рассказчика» [99].
Развивая это положение, М. Бахтин утверждает: «Автор осуществляет себя и свою точку зрения не только на рассказчика, на его речь и его язык (которые в той или иной степени объектны, показаны), но и на предмет рассказа, — точку зрения, отличную от точки зрения рассказчика. За рассказом рассказчика мы читаем второй рассказ — рассказ автора о том же, о чем рассказывает рассказчик, и, кроме того, о самом рассказчике. Каждый момент рассказа мы отчетливо ощущаем в двух планах: в плане рассказчика, в его предметно-смысловом и экспрессивном кругозоре, и в плане автора, преломленно говорящего этим рассказом и через этот рассказ... Не ощущать этого второго интенционально-акцентного авторского плана — значит не понимать произведения» [100]. Попробуем подойти к нашей проблеме с учетом этих положений.
Прежде всего возникает вопрос, почему в романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд отказывается от объективного повествования. Другими словами, нужно решить, является ли рассказчик в данном случае абсолютно необходимым и почему.
Как показывает предшествующий анализ «Великого Гэстби», в повествовательной перспективе Фицджеральд не отказался ни от одного из достижений своих предшественников. Действительно, «передоверив» рассказ, он обеспечил «флоберовскую» объективность, одновременно с этим привел читателя в непосредственный «контакт» с событиями романа, а также наметил четкие границы своей модели мира. Объективированное повествование придает особую убедительность собственно действию; нарушение хронологии событий, как было показано, выполняет свою функцию, но функция придания достоверности действию оказывается далеко не единственной. Наконец, полностью используются все заложенные в избранной автором повествовательной перспективе возможности углубления психологического анализа. Тем не менее даже осуществление всего этого еще не делает повествовательную перспективу новаторской.
Ник отличается от своих литературных предшественников не только тем, что ему «принадлежит» одна из двух главных сюжетных линий произведения, но и тем, что ему «поручена» линия особого содержательного значения. С рассказчиком у Фицджеральда связывается, причем непосредственно, идейная направленность романа. Таким образом, Ник полностью утрачивает какой бы то ни было оттенок «периферийности». Он ни в коей мере не может считаться пассивным, хотя и глубоко чувствующим свидетелем. Его роль — не просто наблюдателя, но и активного действующего лица — вырисовывается по мере развития сюжета все яснее, и активность получает все больший «перевес» над наблюдением. Образ рассказчика оказывается у Фицджеральда по-новому содержательным, обретает историко-социальную и философскую «центральность», которой до него аналогичные образы не обладали. Здесь необходимо выделить один немаловажный оттенок. Джеймс, Конрад и Форд нередко стремились как бы выйти за национальные рамки, расширить сферу изображаемого, но оказывались симптоматично ограниченными в этом отношении. Ник у Фицджеральда выступает в первую очередь как носитель идеологии, связываемой с «потерянным поколением», то есть — как выразитель важнейшей интернациональной социально-этической позиции.
Повествователь в романе Фицджеральда качественно отличается от своих литературных предшественников и тем, что оказывается абсолютно необходимым, незаменимым, и в этом вновь проглядывает масштабность его содержательного значения. У Джеймса, Конрада и Форда рассказчики не выражают основную хронотопичность (М. М. Бахтин) произведения. Здесь содержательная сторона как бы зримо срастается с формальной. «Всеведущий» автор мог бы рассказать историю Гэтсби, но вся таинственность, окутывающая героя, в таком случае вовсе отсутствовала бы, а мы видели, какое значение она имеет не только для правильной оценки образа Гэтсби, но и образа Ника. Для «всеведущего» автора с самого начала никакой неясности не было бы, а ведь в романе очень важно, что истинный характер личности Гэтсби узнается лишь постепенно. «Всеведущему» автору либо пришлось бы совершенно исключить Ника из повествования, и тогда бы мы имели совсем другой роман, либо пуститься на разного рода ухищрения, чтобы отразить то же содержание. При этом близость автора к рассказчику, вообще характерная для литературы «потерянного поколения», не могла бы не привести к существенным художественным неудачам в обрисовке Ника, а кроме того, была бы утрачена экономичность формы.
Вводя своего рассказчика, Фицджеральд прежде всего стремился непосредственно сопоставить и даже столкнуть два разных типа сознания, причем основное различие их состояло в социально обусловленных особенностях восприятия времени. Конечно, сознания эти кардинально различны, но они и дополняют друг друга, создавая в совокупности сложную основу хронотопа «Гэтсби». Жанрообразующее качество хронотопа выявляется в романе с полной очевидностью.
Итак, то новое, что Фицджеральд внес в разработку повествовательной перспективы, можно уже суммировать: рассказчик становится одним из главных действующих лиц и главных выразителей основных идей произведения, которые обязательно включают некоторые центральные идеи эпохи; рассказчик оказывается абсолютно необходимым для того, чтобы представить все основные сюжетные линии в надлежащей перспективе и с максимальной экономичностью формы; рассказчик обусловливает характер хронотопа, а с ним и новую жанровую разновидность романа. Конечно, все эти качественно новые особенности повествовательной перспективы неразрывно связаны друг с другом и полностью выявляют свой идейно-художественный смысл лишь в сложном единстве всего произведения.
О языке романа, мастерском построении предложения, тончайшей структуре абзаца, связи между абзацами, стоящими рядом, можно было бы писать бесконечно, в изобилии находя соответствующий материал на любой странице книги. Разумеется, стиль «Великого Гэтсби» неоднократно привлекал внимание зарубежных и советских исследователей. Так, С. Пероза пишет, между прочим, что Фицджеральд перешел от предложения (в романе «По эту сторону рая») к периоду [101]. Согласиться с критиком можно лишь отчасти. Рассматривая ранние романы Фицджеральда, мы находили примеры великолепных периодов, которые сами по себе едва ли уступают периодам в «Гэтсби». Возникает естественный вопрос: чем же отличается язык и стиль анализируемого романа от языка и стиля двух первых крупных произведений писателя?
А. Майзенер находит, что Фицджеральд писал интуитивно, и обосновывает свое утверждение тем известным фактом, что один из центральных символов романа попал в произведение случайно, так как только подготовленный художником вариант обложки натолкнул автора на мысль «вписать» глаза доктора Эклберга в книгу [102]. Можно ли на таком основании говорить об интуитивном письме? Ведь с тем же успехом можно было бы утверждать, например, что Ньютон интуитивно (случайно?) открыл закон всемирного тяготения, увидев, как яблоко падает с дерева. Тем не менее А. Майзенер не так наивен, как может показаться.
Нам уже несколько раз приходилось говорить, что каждое слово, каждая деталь, каждая черточка романа имеет существенное значение, не возникает в тексте случайно, а книга в целом является плодом тщательно продуманного замысла. Нетрудно заметить также, что на этот раз у Фицджеральда «каждое ружье стреляет», причем в большинстве случаев — неоднократно. Значит ли все что, что Фицджеральд подбирал слово за словом, исходя из того, в каком пункте детально разработанного повествования это слово «выстрелит»? Конечно, нет. Как всякий большой реалист, он писал именно так, а не иначе, потому что ему так «писалось». В этом отношении письмо его может называться интуитивным. Но это особая интуитивность. У нее есть и другое название. Достигший творческой зрелости, нашедший оригинальную форму, отвечавшую складу его дарования, Фицджеральд работал над романом в том прекрасном состоянии, какое так точно описал Пушкин:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Фицджеральд и писал «свободно», то есть вдохновенно, что вовсе не исключает тщательной работы над рукописью, многократных правок, переделок и переписывания. Он мог проверять, и, несомненно, проверял, слово и фразу на слух, он добивался художественного совершенства, но не холодный рационализм водил его пером. Не умозрительный подбор и отбор слова, потому что этому слову предстоит «выстрелить», в отличие от другого слова, три раза вместо двух, а вдохновенное воплощение художественной идеи обусловливало оптимальный интуитивный выбор. Тут необходимо было счастливое сочетание таланта и вдохновения, которое только и может породить чудо творчества.
То же самое можно сказать о многих произведениях. Почему же мы останавливаемся на этом моменте так подробно? Во-первых, чтобы рассеять ошибочное впечатление, которое могло сложиться в результате многократного акцентирования строгой организации романа. Во-вторых, — и это значительно важнее,— чтобы подчеркнуть реализм Фицджеральда. Утверждение А. Майзенера содержит некоторый упрек. Действительно, рекламный знак доктора Эклберга очень важен. Но так ли уж страшно, что обложка «подсказала» писателю пусть даже и важную идею, когда произведение, в сущности, было уже окончено? Как ни важен обретенный таким образом символ, о нем можно сказать — и здесь мы расходимся с А. Майзенером, — что находка писателя была закономерной, а не случайной. На стадии завершения работы любой, даже, на первый взгляд, нейтральный случай мог натолкнуть автора на замечательную идею. Так было потому, что соответствующий мотив романа еще не ощущался писателем как художественно завершенный. Конечно, здесь участвует интуиция, работа подсознания, но мы имеем дело с письмом реалиста, а не символиста или интуитивиста, и это необходимо помнить.
С. Пероза находит связь эстетики Фицджеральда с традициями романтиков Готорна («Алая буква») и Мелвилла («Моби Дик») [103]. Другие исследователи настойчиво пишут о том же. Так, Ч. Сэмюэлс, весьма подробно останавливаясь на некоторых символах романа, приходит к следующему заключению: «Ничто в жизни не достигает уровня вашего представления об этом. Такая романтическая мука, ранее выраженная Китсом, которого Фицджеральд так любил, является основной темой, одушевляющей шедевр Фицджеральда» [104]. Вообще в критике есть тенденция связывать романтические мотивы романа с его символикой. М. Бьюли в отличие от Ч. Сэмюэлса, считающего основным символом «Гэтсби» глаза доктора Эклберга, находит, что главным символом является зеленый свет на причале Бьюкененов [105]. Другие критики также подмечают интересные черты, характеризующие символику произведения.
Д. Шнайдер исследовал символику цветов и нашел, что она подчеркивает основной конфликт «Великого Гэтсби». Критик видит символическое значение в контрасте светлого (белого), и темного, в контрасте белого и голубого — цвета, символизирующие невинность, чистоту, небо,— с золотым (желтым), символизирующим деньги, реальность. Дэзи, по его мнению, обрисована, как белый цветок с золотистой сердцевиной Символика голубого и красного представляется критику менее очевидной. Все же он утверждает, что символическое значение красного цвета то же, что и желтого, но красный (кровь) символизирует и откровенно зловещее. Символическое значение зеленого цвета выводится из того, что он представляет собой результат смешения желтого и голубого [106]. Хотя последнее замечание кажется слишком натянутым, критик во многом прав. Наличия символики цветов в романе, по нашему мнению, отрицать нельзя, но необходимо сразу же заметить, что и символика в «Гэтсби» — продукт реалистического творчества. Отнюдь не всегда цвет вообще имеет символическое значение. Не всегда имеет символический смысл даже тот цвет, который в других эпизодах явно выступает в роли символа,
Р. Макдоннелл рассмотрел символику глаз и попытался доказать, что Ист-Эгг и Уэст-Эгг также должны восприниматься, как глаза, которые оба полуострова напоминают своей формой. Пытаясь доказать скрытую связь слов «egg» и «eye» («глаз»), критик прибегает к сравнительной лингвистике, но рассуждение его кажется несколько натянутым [107]. Все же решительно опровергнуть точку зрения Р. Макдоннелла не удается. Так обнаруживается очень существенная черта образной системы романа: хотя критики подчас видят символическое значение там, где его, может быть, нет, их точка зрения оказывается допустимой, поскольку текстуальный анализ не дает оснований отрицать ее. Частичное объяснение этому явлению находим в очень интересном наблюдении Д. Миллера — младшего. Обсуждая символику Долины Шлака, зеленого огня, глаз доктора Эклберга, критик пишет: «Именно потому, что эти и другие символы «наводят на мысль», а не «означают», «Великий Гэтсби» выдерживает многократное прочтение и при каждом прочтении продолжает «искриться значением» [108].
В советской «фицджеральдиане» стиль романа наиболее подробно рассмотрен А. Н. Горбуновым. Критик пишет: «Подводя итоги, заметим еще раз, что «Великий Гэтсби» — первое крупное произведение Фицджеральда, где обе — лирико-романтическая и сатирико-реалистическая — стороны дарования писателя слились в единое гармоническое целое. И действительно, символика романа, его по-китсовски сенсуалистическая образность, лирически приподнятый строй повествования, романтическая фигура героя, иронические контрасты «двойного видения» и некоторые другие черты книги сближают ее с произведениями романтиков XIX века. Но романтическая стихия не единственная и даже не господствующая в «Великом Гэтсби». Ведь «честность фантазии» художника предполагала для Фицджеральда прежде всего трезвое осмысливание жизни и ее реалистическую оценку, что сыграло главную роль в художественном замысле книги» [109].
Здесь почти все правильно. Хочется лишь отметить, что реализм писателя сказался не только в «художественном замысле», и чуть-чуть сдвинуть акценты. Думается, тезис о «слиянии» (немного ниже говорится уже о «сочетании») обеих сторон дарования Фицджеральда нуждается в небольшом, но существенном уточнении. О связи писателя с романтизмом вообще говорят очень много, и это вполне естественно. Романтическая струя ощущается и в ранних романах Фицджеральда. Только в них она отнюдь не всегда входила органично. Подчас ее наличие приводило к художественному диссонансу, разностильности, к появлению непредусмотренной и нежелаемой автором сентиментальности и так далее. Такой «неорганичности» вовсе нет в «Гэтсби», и все же, нам кажется, следует говорить не просто об «органичном слиянии (сочетании)» двух сторон дарования писателя. Мало и просто выделить главную роль «трезвого осмысливания жизни». Единство стиля, во многом обусловившее художественные достоинства «Гэтсби», определяется, но нашему мнению, тем, что и символика романа, и сенсуалистическая образность, и все остальные орудия из арсенала романтиков используются на этот раз иначе, чем это делали Готорн, Мелвилл и даже неоромантики конца XIX в. Генетически связанные с романтизмом, многие элементы стиля переосмысливаются в «Гэтсби» писателем-реалистом, который использует их «по-реалистически», добиваясь своих целей изменяя или прямо в художественной ткани «критикуя» самый характер таких элементов.
Говоря о языке «Великого Гэтсби», можно отметить его выразительность, эмоциональность, красочность, что критики не раз и делали, и все же даже отдельное слово приходится прежде всего рассматривать как неотрывный компонент образной системы романа. Заметим, кстати, что все это, и особенно высокая идиоматичность языка, делают адекватный перевод произведения таким трудным. Так же трудно анализировать отдельно взятое слово произведения Фицджеральда, ибо оно «сопротивляется» отделению от целого и как бы скрывает отчасти собственное значение за целой сеткой обнаруживающихся связей. Отсюда и огромное значение частных лейтмотивов на всем протяжении повествования. Их оказывается столько, что они заметно проявляют тенденцию вовлечь в свою сферу все слова. Любая деталь романа может открыться по-новому и, независимо от своего видимого содержания, вдруг сверкнуть неожиданным значением. В этом отношении нет разницы между, скажем, деталью обстановки и деталью психологической. Многократное чтение романа доставляет всякий раз новое удовольствие, так как таит новые идейно-художественные «открытия».
Приведем примеры. Во второй главе описан «прием» у Миртл. Пьяный Ник уходит вместе с пьяным же фотографом Мак-Ки, и, как бывает только в случайной пьяной обстановке, эти чужие, в сущности, и почти незнакомые друг другу люди на минуту сближаются: «...Я стоял у его постели, а он сидел на ней в нижнем белье с большой папкой в руках. «Зверь и красавица»... «Одиночество»... «Рабочая кляча»... «Бруклинский мост»...» (I, 317). Здесь все свидетельствует о случайности происходящего, о том, что только состояние опьянения и делает микроэпизод вообще возможным: сцена начинается внезапно, о чем свидетельствует отточие, которое также подтверждает, что нормальное восприятие событий Ником нарушено алкогольными парами. Пик не выходит из этого состояния и к концу сцены, завершающейся провалом в памяти. Прямо от постели фотографа рассказчик непонятным образом «переносится» на вокзал. Мак-Ки тоже пьян, иначе он не сидел бы в нижнем белье перед посторонним человеком. Мы уже знаем, что фотограф он неважный. В романе он больше ни разу не появляется. Ясно, что столь же случайны и фотографии, которые он показывает Нику. Названия их вполне естественны. Когда же критик В. Дойно внимательно присмотрелся к названиям этих фотографий, то обнаружил их несомненное лейтмотивное значение [110].
Строгая организация повествования, его высокая образность по-своему отражаются в каждом или почти каждом слове, предложении, абзаце «Гэтсби». Яркое слово, ритмически безупречное предложение, великолепно сконструированный абзац, как уже говорилось, можно было без особенного труда найти и в обоих ранних романах Фицджеральда, но в них замечался и стилистический диссонанс, и другие существенные художественные просчеты. Высокое художественное качество перечисленных и некоторых других элементов не было обязательным и нередко обращало на себя внимание на бледноватом фоне. В первых романах были изумительные по точности и психологической глубине детали, но далеко не все детали были одинаково хороши. В строгом единстве «Гэтсби» можно найти, например, деталь, поражающую воображение, но такая деталь теперь уже сливает свой блеск с ровным блеском фона. То же можно сказать о предложении, абзаце, связи между абзацами, о любом — от самого маленького до самого крупного — элементе стиля. Хронотоп и строгая организация романа как бы создают поле высокого напряжения, в котором «негодные» элементы просто не могут существовать, зато образные элементы несут большую смысловую нагрузку. Рассмотрим несколько примеров. Вот (начало второй главы) Том впервые приводит Ника в убогий гараж Уилсона: «Мне вдруг представилось, что этот гараж без машин (здесь и дальше разрядка моя.— Ю. Л.) — просто маскировка...» (I, 306). Переводчик в данном случае сделал все возможное, но верная передача смысла оригинала повлекла, к сожалению, немалую утрату образности. В оригинале сказано: «this shadow of a garage». Вся конструкция — идиома. Слово «тень» (shadow) здесь очень важно, так как незаметно «соединяет» общий вид Долины Шлака (первый абзац главы), где «шлаковосерые человечки... словно расплываются в пыльном тумане» (I, 305), с гаражом Уилсона и самим хозяином, о котором чуть ниже сказано: «Уилсон торопливо кинулся к своему закутку и сразу пропал на беловатом фоне стены. Налет шлаковой пыли выбелил его темный костюм и бесцветные волосы» (I, 307). Тень здесь торжествует повсюду: люди в Долине Шлака более напоминают тени, чем живых людей, гараж Уилсона кажется только тенью гаража, а сам хозяин тоже больше напоминает тень, чем человека из плоти и крови. Казалось бы, слово «тень» достаточно нагружено, но анализируемый роман тем и отличается, что в нем все образные потенции слова используются максимально. «Теневая» характеристика Уилсона резко и непосредственно подчеркивает «телесность», «плот-скость» Миртл, над которой и шлаковая пыль — рассказчик прямо говорит об этом, — кажется, не властна. Мало того, слово «тень» косвенно связано с важным этапом повествования в конце восьмой главы. В момент, непосредственно предшествующий убийству Гэтсби, мечта которого рухнула, мир представляется герою романа изменившимся: «То был новый мир, вещественный, но не реальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем... как та шлаковосерая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев» (I,419).
Образность в романе как бы проникается значением, а значение — образностью. Четвертая глава начинается так: «По вторникам с утра, когда в церквах прибрежных поселков еще шел колокольный перезвон, весь большой и средний свет съезжался к Гэтсби и веселым роем заполнял его усадьбу» (I, 336). В оригинале фразе «большой и средний свет» соответствует выражение «the world and its mistress», буквально — «свет и его любовница». Здесь мы не только получаем характеристику посещавшего Гэтсби общества, но и резкое усиление, возникающее в результате появления слова «любовница» как бы «под аккомпанемент» звона церковных колоколов. Рассмотрим еще один пример того же плана, но с элементом конкретизации, перехода от общего к частному. На приеме у Гэтсби Ник видит, как ревнивая жена уговаривает мужа уехать: «...каждые пять минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая, точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: «Ты же обещал!» (1, 329). В оригинале нет слова «сверкая», а есть прямое сравнение женщины с «разгневанным бриллиантом» («angry diamond»). Слово «сверкая», употреблено в переводе, должно быть, чтобы «прикрыть» ту коннотацию, которую по-русски передать невозможно. Слово diamond («бриллиант») в сознании англоязычного читателя вызывает ассоциативное представление о змее. Змеи, имеющие ромбовидный узор на спине, по-английски называются «diamondbacked», и таких, кстати очень ядовитых, змей в США немало. Если бы даже ассоциация не возникла в уме читателя при виде слова «diamond», слово «шипела» сделало бы ее неизбежной, ибо английское «hissed» («шипела») прежде всего связывается с шипением змеи. Оказывается, Фицджеральд, прибегая к сравнению, имел в виду отнюдь не только искры холодной ярости.
Тенденция к скрытой образности пронизывает и устную речь героев романа. Вот лишь один пример. Гэтсби то и дело употребляет обращение «старина» («old sport»). Это обращение так часто употребляется, что становится, пожалуй, наиболее заметным признаком его речи. Пылая ненавистью, Том Бьюкенен (сцена решительного объяснения) требует, чтобы Гэтсби не называл его так, и тут же обвиняет противника во лжи, утверждая, что тот никогда не был в Оксфорде. Протест против обращения «старина» выражен так: «"А без этого своего словца вы никак не можете?" — резко спросил Том. "Какого словца?" — "Да вот — «старина». Где только вы его откопали?"» (разрядка моя. — Ю. Л.; I, 391). Понятно, что обращение «старина» для Тома служит доказательством того, что Гэтсби никогда не был в Оксфорде. Ирония эпизода, между прочим, состоит в том, что это обращение Гэтсби «откопал» скорей всего именно в Оксфорде. Это обращение входило в жаргон английской «золотой молодежи» в те годы, а общаться с юными представителями высших классов Англии Гэтсби мог только в Оксфорде [111]. Вдумчивый читатель теперь легко обнаружит нити, связывающие этот эпизод с несколькими другими. Образность, связанная с многозначностью, сама по себе заставляет предполагать какой-то смысл, скрытый за буквальным, и, следовательно, создаст подтекст или способствует его созданию. Подтекст, как упоминалось, создается также в результате специфического построения диалога или введения важной «перебивки» диалога, но все это — частности. Общий подтекст романа создается именно его хронотопом и той системой символов, без надлежащей оценки которых анализ произведения едва ли можно завершить.
В «Гэтсби» реальная и вполне жизненная сцена подчас приобретает, не теряя своего прямого значения, символический характер. Это может, например, случиться, когда действия героев вольно или невольно направляются на аксессуары, имеющие тенденцию стать символами. Так, мы видели, какое огромное значение в романе имеет время, в частности вопрос о том, можно ли вернуть прошлое. Ник пытается убедить Гэтсби, что нельзя, но Гэтсби непоколебимо уверен в своей правоте, пока Дэзи не предает его. Когда Гэтсби встречается, наконец, с возлюбленной, вполне понятное нервное напряжение диктует все его поведение, каждый жест, каждое слово: «Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Голова у него была так сильно откинута назад, что почти упиралась в циферблат давно отживших свой век часов на каминной полке, и с этой позиции он взглядом безумца смотрел на Дэзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда» (I, 357).
Здесь, помимо психологического состояния Гэтсби, многозначительно намечен контраст его чувств и чувств Дэзи, и вся сцена выглядит совершенно реально. Не вызывает удивления и упоминание часов на каминной полке.
Напряжение в сцене все нарастает, и уже кажется счастьем, что Гэтсби, случайно толкнув часы, в последний момент поймал их и поставил на место. Это маленькое происшествие открывает возможность снять напряжение, отвлечься, расслабиться. Именно поэтому, то есть психологически вполне оправданно, Гэтсби использует случай заговорить и просит прощения. Ник тоже очень волнуется, что видно из перебивки диалога перед его репликой: « — Это очень старые часы, — идиотски заметил я. Кажется, мы все трое искренне считали тогда, что часы лежат на иолу, разбитые вдребезги» (I, 357). Этим эпизод с часами исчерпался бы, если бы не следующая реплика Дэзи, скрыто связанная с происшедшим: «"А давно мы с вами не виделись", — произнесла Дэзи безукоризненно светским тоном» (I, 358). Слова Дэзи просто повисли бы в воздухе, если бы на камине вместо часов стояла вазочка или статуэтка. И вот часы, на первый взгляд, всего лишь предмет реквизита, придают всей сцене символическое значение. На какое-то краткое мгновение всем ее участникам кажется, что Гэтсби разбил время (Американская критика давно отметила символическое значение этой сцены (Carrithers G. Н. Jr. Fitzgerald's triumph. - In: К. J. Hoffman cd. by "The Great Gatsby", p. 311). ). Этот эпизод — часть разработки хронотопа, но в романе есть, как отмечалось, и другие группы символов.
А. Н. Горбунов совершенно прав, связывая символику «Гэтсби» с романтической традицией, но, как упоминалось, здесь необходимы некоторые уточнения. Обратимся прежде всего к символике цвета. До «Великого Гэтсби» цвет у Фицджеральда в лучшем случае имел лишь зачатки содержательного значения. Иначе в анализируемом романе, где цвет очень часто выступает как элемент сложной образности повествования и как символ.
В общем описании приема у Гэтсби (глава третья) есть фраза: «вот уже оркестр заиграл золотистую музыку под коктейли...» (I, 319). В оригинале говорится о «желтой» («yellow») музыке, но переводчик очень верно выбрал слово. Как отмечалось, желтый цвет символизирует в романе золото, а во времена «сухого закона» только богатые могли себе позволить настоящие коктейли. Таким образом, характеристика музыки получает новое качество.
Интересно сравнить символику цвета в «Гэтсби» и в таких шедеврах американского романтизма, как «Моби Дик» и «Алая буква». У романтиков символ, как правило, нуждается в объяснении, то есть выступает как отклонение от нормы. Моби Дик не был обычным китом, цвет, выделяющий его среди других китов, конечно, символичен, и в романс есть целая глава, названная: «О белизне кита». По поводу цвета Моби Дика Ю. Ковалев справедливо пишет: «Белизна, олицетворяя что-то в сознании человека, сама по себе не является ничем: в ней нет ни добра, ни зла, ни красоты, ни уродства — в ней лишь одно чудовищное безразличие» [112]. Далее исследователь приходит к обоснованному заключению, что символическое значение этого цвета непосредственно связано с выражением идеи безразличия вселенной к человеку [113]. Итак, у Мелвилла символика (в том числе и символика цвета) служит утверждению передовых для его времени представлений о мире, но это отнюдь не избавляет писателя от необходимости выделять некоторую необычность, исключительность символа. Отсюда и нужда в пояснении.
Примерно так же обстоит дело и с романтическими символами меньшего масштаба. Не будем говорить об Алой Букве как таковой. Посмотрим, как сказано о другом символе в первой же главе знаменитого романа Готорна. Сообщив, что у дверей бостонской тюрьмы растет куст диких роз, автор не может не дать пояснений столь необычному явлению: «Этот розовый куст по какой-то странной случайности рос тут с незапамятных времен.
Мы не в состоянии установить, просто ли он сохранился с той поры, когда его окружал дремучий суровый лес, и как-то пережил падение склонявшихся над ним могучих дубов и сосен, или же — как утверждают весьма достоверные источники — расцвел из-под ног праведницы Энн Хетчинсон, когда она вступала в двери тюрьмы» [114]. Вновь мы видим акцентирование некоторой исключительности символа и, естественно, находим необходимые пояснения. В дальнейшем выясняется, что и цвет роз на кусте имеет свое символическое значение.
Исследуя природу символа, А. Ф. Лосев сопоставляет символ и миф и справедливо утверждает: «Художественные образы в значительной мере символичны, но мифами они являются сравнительно редко. Надо отдавать себе ясный отчет в том, что всякий миф есть символ, но не всякий символ есть миф» [115]. В творчестве романтиков мифологический элемент, вероятно, может считаться обычным. Вот как, например, пишет о немецких роман-тиках Е. М. Мелетинский: «Натурфилософские взгляды романтиков (в особенности с включением мистического учения Беме) способствовали обращению к низшей мифологии, к различным категориям природных духов земли, воздуха, воды, леса и гор, сильфид, русалок, ундин, саламандр, гномов и т. п.» [116]. В наши цели не входит рассмотрение вопроса о том, в какой мере приведенное положение применимо к американскому романтизму. Здесь вполне достаточно отметить, что и романтики США обращались к низшей мифологии (да и не только к низ-шей). Хотя, например, Готорн не без иронии пишет о возможности сверхъестественного появления розового куста «из-под ног праведницы», в романе «Алая буква» есть немало мифологических мотивов. Отнюдь не стремясь к широким обобщениям, мы лишь попытались отметить некоторые характерные черты символики тех американских романтиков, с творчеством которых традиционно (и справедливо) связывается романтическая струя романа «Великий Гэтсби».
Даже если признать символическое значение за теми образами «Гэтсби», которые, на наш взгляд, такого значения не имеют, можно утверждать, что символы в романе Фицджеральда не обладают ни одной из отмеченных особенностей символики «Моби Дика» или «Алой Буквы». Когда, например, Ник впервые входит в гостиную Бьюкененов, Дэзи и Джордан оказываются одетыми в легкие белые платья. Если допустить, что в данном эпизоде цвет имеет символическое значение, он все равно не нуждается ни в каких пояснениях, потому что в нем нет ничего необычного. В самом деле, какая одежда может быть естественней в жаркий день и вообще в такой ситуации? Зеленый огонек на причале Бьюкененов безусловно имеет символическое значение, но и о нем можно сказать то же самое. Вот как он упоминается впервые: «...где-то далеко светился зеленый огонек, должно быть, сигнальный фонарь на краю причала» (I, 304). Вновь ничего необычного, все вполне естественно. Та же естественность сохраняется и при всех дальнейших упоминаниях этого символа.
Параллельно с символикой цвета в романе намечается другая «цепочка» символов. В нее входят: Филин или, лучше сказать, его глаза (в оригинале он так и называется «owl-eyes», что в буквальном переводе означает «совиные глаза» или «глаза филина»; прозвище возникло из-за огромных очков этого персонажа), «глаза доктора Эклберга» — рекламный знак давно исчезнувшего окулиста, неизменно царящий над Долиной Шлака, и, по упоминавшемуся мнению некоторых критиков, собственно Ист-Эгг и Уэст-Эгг. Эти образы необходимо рассмотреть подробнее.
В английском языке словом «owl» («сова», «сыч», «филин») можно назвать человека, напоминающего одну из этих птиц мудростью (заметим, что здесь есть мифологические обертоны) или глупостью. Филин в романе проявляет в основном мудрость, чем, кстати, отличается от остальных гостей Гэтсби. Он не только «не имеет» фамилии, но и умеет отличить настоящее от поддельного. Появившись впервые в третьей главе, он затем исчезает до самых похорон Гэтсби. Исключительность его вновь подчеркивается в сцене похорон. Сохраняет ли этот образ черты романтического символа? Ведь он отличается от всех других лиц той же категории, он даже объясняет, как попал к Гэтсби: «Меня привезли. Тут почти всех привозят» (I, 324). Допустим, что Филин действительно выступает в качестве символа. Тогда возникает вопрос, кого (или что) он символизирует. На этот вопрос, оказывается, не так-то легко ответить. Р. Макдоннел в упоминавшейся статье утверждает, что Филин символизирует внимание бога к жизни Гэтсби. Другими словами, Филин и есть бог [117]. Можно ли принять такую трактовку? Филин как раз и отличается тем, что одни его особенности «стремятся» придать ему значение символа, но другие как бы препятствуют этому. Он отличается от остальных гостей, но, подобно большинству из них, он пьян. Он объясняет, как он попал к Гэтсби, но тут же замечает, что почти все попали на прием таким же образом. Он, в соответствии с обоими значениями прозвища, проявляет не только мудрость: в сцене разъезда не сразу понимает окружающих, так как, по-видимому, не успел полностью протрезвиться. А уж лексика «эпитафии» (в оригинале) совсем не соответствует никакой божественной сущности. Пожалуй, можно даже сказать, что в образе Филина, если признать его символичность, ощущаются и пародийные черты. В то же время нельзя отрицать, что Филин наделен способностью отличать подлинное от мнимого, а, побывав один раз (пьяным) на приеме у Гэтсби, а затем на его похоронах, способен мгновенно и точно оценить ситуацию. Что же следует из сказанного? Может быть, Филин вообще не символ, а просто очень важный образ. Может быть, он и символизирует божественный интерес к жизни Гэтсби. Но самой возможностью такой двойственности Филин отличается от символов Готорна и Мелвилла и, как ни парадоксально это звучит, «божественное» в символике «Гэтсби» имеет выраженный атеистический характер.
Остальные символы этой группы имеют собственные особенности. В рекламном знаке вообще нет ничего необычного, особенно для США. В то же время чувствуется, что это не простой образ. Потрясенному Уилсону представляется, что над местом его многолетнего убогого обитания царят глаза всевидящего бога, но Михаэлис тут же поправляет соседа, говоря, что это всего лишь реклама. У. Голдхерст видит символическое значение рекламного знака в том, что в стране реклама вообще является богом [118]. Этот оттенок значения образа кажется нам несомненным. Что же касается Эггов, то, по нашему мнению, они символизируют не глаза, даже не только Запад и Восток страны, но и Западное и Восточное полушария, то есть Старый и Новый Свет. Так или иначе, но символика романа, хоть и связанная генетически прежде всего с романтизмом, переосмысливается реалистом и повсюду в произведении несет на себе соответствующий отпечаток. Подмеченная же Д. Миллером-младшим особенность этой символики (символы, напоминаем, не столько «означают», сколько «наводят на мысль») очень важна в двух отношениях: во-первых, такие символы не характерны для романтической литературы; во-вторых, они в большой мере способствуют созданию уже упоминавшейся «мерцающей», «колеблющейся» атмосферы романа.
Последнее, о чем необходимо сказать при обсуждении символики «Великого Гэтсби», — обрисовка в нем пейзажа и вообще природы. В первой же главе находим интересный пассаж: «Уже совсем по-летнему разогрелись за день крыши придорожных закусочных и асфальт перед гаражами, где в лужицах света торчали новенькие красные бензоколонки. Вернувшись к себе в Уэст-Эгг, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков, — хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка...» (I, 303—304).
Это, конечно, не просто самодовлеющий пейзаж, достаточно, впрочем, обычный для реалистической литературы, но импрессионистически окрашенная сцена. В лексике, в образах картины, во всей ее тональности находит точное отражение психологическое состояние Ника. В предшествующем процитированному абзаце прямо говорится: «Я был тронут радушным приемом Дэзи и Тома, даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня,— но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка» (I, 303). В том, как Ник воспринимает картину ночи, и отражается тот факт, что у него тепло на душе. Понятно, что такое состояние мешает ему немедленно уйти в дом. Повернув голову вслед кошке, Ник впервые видит Гэтсби. Причину ядовитых мыслей Ника о Гэтсби, изложенных тут же, следует искать не просто в его общем умонастроении, но и в наличии только что упомянутого — с расширенным пояснением, которого мы не цитировали — неприятного осадка. Все же очарование радушного приема и ночи берет верх, и Ник решает окликнуть Гэтсби. Заметим, между прочим, что внутренняя структура и сочетание трех абзацев, завершающих главу,— яркий пример блистательного мастерства Фицджеральда.
Если бы в том, как писатель рисует природу, была одна лишь импрессионистичность, на всем предмете едва ли стоило бы задерживаться так долго. Но пейзаж, картина природы, подобно многому другому, в романе полифункциональны. Писатель включает природу в обе составляющие хронотопа. Как отмечала критика и мы уже отчасти показали, действию в произведении соответствует природный цикл от весны до осени и заморозков, а также и временной цикл, охватывающий сотни лет. Эта исполненная смысла параллель насыщает природный цикл весна — осень содержательным значением, относящимся ко всей проблематике книги. Импрессионистический момент органически включается в образное представление природы, организованное по линии времени, Что же касается пространственных отношений, то обрисовка природы, как было видно, является частью наиболее значительной символической системы произведения. Здесь, конечно, следует выделить и социально заостренный символический контраст Долины Шлака и богатых дворцов. Так определяются две важнейшие функции природы в «Гэтсби»; любая небольшая пейзажная зарисовка, как правило, обретает и другие значения, связанные с теми или иными лейтмотивами.
Приведенная нами картина ночи отличается, помимо прочего, остротой чувственного восприятия. А. Н. Горбунов справедливо подчеркивает «по-китсовски» сенсуалистическую образность» романа. Эта черта «Великого Гэтсби» не вызывает сомнений и, проявляясь не только в описаниях природы, придает повествованию немалую чувственную достоверность. Тем не менее и здесь отчетливо видно, что орудием романтиков пользуется реалист. Рассмотрим один лишь пример. Ник рассказывает, что каждую пятницу Гэтсби получал от фруктовщика шесть корзин апельсинов и лимонов, а каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом в виде горы полузасохших корок. Переводчик в данном случае сделал все возможное, и не его вина, что заметный в оригинале элемент чувственности в переводе очень ослаблен. В английском языке есть слово, соответствующее русскому «корка» (апельсина, лимона), но писатель его не использует. В оригинале говорится о «pulpless halves». Слово «pulp» означает «мякоть», «мягкая бесформенная кашица», а слово «halves» — «половинки». Таким образом, переводя буквально, пришлось бы говорить о «лишенных мякоти половинках» (апельсинов и лимонов). В переводе не просто теряется реалистически убедительная подробность — указание на то, что плоды разрезали пополам, прежде чем положить в соковыжималку, а и очень важное слово «pulp», несущее сенсуалистический «заряд». Но картина, складывающаяся в воображении читателя, когда он воспринимает этот «заряд», едва ли может связываться с эстетикой романтизма, ибо имеет совершенно реалистический характер.
Романтическая струя в романе связана в основном с образом и сюжетной линией Гэтсби. Ник с самого начала относится к себе не без некоторой иронии, вполне понятной, если учесть его принадлежность к «потерянному поколению» и тот этап его жизни, с которого, собственно, начинается рассказ. Если кое-где от Ника исходят романтические лучи, это лишь отраженный свет другого источника. Двойственность характера Гэтсби, как нетрудно заметить, рассмотрев любой подходящий конкретный эпизод, допускает и даже делает необходимым (органичным) появление романтической струи, а с другой стороны, обеспечивает ее реалистическую «аранжировку». Если же романтическая «сторона» Гэтсби как бы дается крупным планом (это происходит преимущественно ближе к концу романа, когда характер Гэтсби проясняется, а мечта его приобретает все возрастающее значение), то непременно «вступает» Ник и спускает читателя с романтических небес на реалистическую землю.
В ранних романах Фицджеральду случалось впадать в сентиментальность. В «Гэтсби» Ник сам квалифицирует как сентиментальные особенно «романтические» монологи героя. В этом отношении крайне характерны, например, последние абзацы шестой главы. И всякий раз, когда романтическая струя «стремится» стать самостоятельной, выйти из рамок реалистической «аранжировки», находится тот или иной способ (подчас в этом плане помогают даже символы) в самом тексте акцентировать реалистический момент, как бы содержащий действенную критику романтического звучания. Разумеется, того же нельзя сказать о каждом реалистическом произведении, включающем романтическое начало, и мы не делаем никаких далеко идущих обобщений, но в романе «Великий Гэтсби», если рассматривать его всесторонне, реалистическое переосмысление романтической стихии представляется вполне закономерным.
Подведем итоги. Фицджеральд рано подметил, почувствовал и точно отобразил не сразу очевидное коренное социальное неблагополучие 20-х годов в США, показал, что оно чревато трагедией. «Великий Гэтсби» — роман трагический. Трагедия в повествовании как бы прячется за судорожным весельем послевоенного десятилетия, ни на минуту не исчезая совершенно. Когда же она становится явной, отсветы ее по-своему окрашивают исторические эпохи и мировые пространства.
«Великий Гэтсби», конечно, не исторический роман в собственном смысле слова. Его идейное содержание вовлекает в свою сферу столетия истории, но не через изображение и раскрытие исторических событий, процессов и характеров прошлого, а через своеобразное преломление настоящего. При этом идея «связи времен» служит плодотворным отправным пунктом в построении особого хронотопа, определяющего оригинальную жанровую разновидность романа. Писателю удалось отобразить некоторые важнейшие социальные проблемы времени в их существенных взаимосвязях. Время и пространство в книге выступают в неразрывном диалектическом единстве, вся ее образность обусловлена новаторской организацией повествования.
«Великий Гэтсби» принадлежит к числу тех достижений американского критического реализма, которые продемонстрировали зрелость литературы США. Гуманистический пафос, глубокое и важное социальное содержание, жанровое своеобразие, блистательная новаторская художественная форма делают этот роман одним из наиболее заметных, интересных и значительных явлений мировой реалистической литературы XX в.
Примечания
1 Dear Scott/Dear Max, p. 70.
2 Turnbull Л. Scott Fitzgerald. London, 1962, p. 140.
3 Kenny J. M. Jr. "The Great Gatsby". - In: Collection 3, p. 124.
4 Kazin A. Introduction. - In: Collection 1, p. 11.
5 Mencken H. L. "The Great Gatsby". - In: Collection 1, p. 88.
6 Fitzgerald F. S. The letters, p. 362.
7 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 61.
8 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 188.
9 Там же, с. 200.
10 Там же, с. 200-201.
11 Чичерин А. В. Идеи и стиль. М., 1965, с. 11.
12 Близкую к этой позицию занимает Ф. Дж. Хоффмен: Introduction.- In: Hoffman F. J. Ed. by. The Great Gatsby: a study. New York, 1962, p. 10.
13 Fitzgerald F. S. The letters, p. 362.
14 Piper H. D. F, Scott Fitzgerald, p. 115-120. По этому поводу есть и свидетельство самого Фицджеральда (Dear Scott/Dear Max, p. 89).
15 Chase R. Op. cit., p. 163-165.
16 Trask D. F. The end of the American dream.- In: Collection 3, p. 213; Watkins C. Fitzgerald's jay gatz and young Ben Franklin.- In: Collection 3, p.202; Wyllie I. G. The self-made man in America 1954.- In: Collection 3, p. 208.
17 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 271.
18 Мендельсон М. О. Творческий путь Ф. С. Фицджеральда, с. 191-192.
19 Засурский Я. Н. Назв. работа, с. 203.
20 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 68-74.
21 Зверев А. М. Назв. работа, с. 148-149.
22 Там же, с. 173.
23 Там же, с. 174.
24 Там же, с. 181.
25 Там же, с. 183.
26 Морозова Т. Л. Назв. работа, с. 377 - 383.
27 Dear Scott/Dear Max, p. 83.
28 Зверев А. М. Назв. работа, с. 182.
29 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957, т. 1, с. 391.
30 Морозова Т. Л. Назв. работа, с. 381.
31 Морозова Т. Л. Назв. работа, с. 383.
32 Chase R. Op. cit., p. 167.
33 Trask D. F. Op. cit., p. 213.
34 Анализ оригинального текста выполнен по изданию: Fitzgerald F. S. The Great Gatsby. Harrnondsworth, 1974.
35 Зверев А. М. Назв. работа, с. 174.
36 Марк Твен. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1960, т. 6, с. 305.
37 Например: Watkins F. С. Op. cit., p. 202.
38 Морозова Т. Л. Назв. работа, с. 382.
39 Старцев А. Назв. работа, с. 268.
40 Hoffman J. The Twenties. New York; London, 1965, p. 140.
41 Sklar R. F. Op. cit., p. 175.
42 Ibid., p. 176.
43 Hanzo T. The Theme and the Narrator of "The Great Gatsby" - In: Hoffman F. J. Ed. by "The Great Gatsby", p. 286-296.
44 Ibid., p. 296.
45 Ibid.
46 Мендельсон М. О. Назв. работа, с. 199.
47 Горбунов Л. Н. Назв. работа, с. 83-88.
48 Там же, с. 88.
49 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 268.
50 Там же, с. 270.
51 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1963, т. 3, с. 447.
52 Cooperman S. World war I and the American novel. Baltimore, 1967, p. VII.
53 Очерки новой и новейшей истории США. М., 1960, т. 2, с. 13.
54 Bewley M. Scott Fitzgerald's criticism оf America, p. 138.
55 Fussell E. Fitzgerald's brave new world.- In: Collection 2, p. 47.
56 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 78.
57 Там же.
58 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 78.
59 Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. М., 1966, с. 76.
60 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 76.
61 Bewley M. Op. cit., p. 132.
62 Еblе К. The craft of revision: The Great Gatsby,- In: Collection 3, p. 116.
63 Cowley M. Introduction.- In: Three novels of F. Scott Fitzgerald.- New York, 1953, p. XIV.
64 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 273.
65 См. письмо Э. Уортон Фицджеральду (Hoffman F. J. cd. by "The Great Gatsby", p. 178).
66 Dear Scott/Dear Max, p. 85-86.
67 Зверев А. М. Назв. работа, с. 183-68 Там же, с. 184.
69 Latham A. Op. cit., p. 47.
70 Bewley M. Op. cit., p. 130.
71 Trask D. F. The end of the American dream.- In: Collection 3, p. 214.
72 Cowley M. Introduction, p. XVIII; Dyson A. E. "The Great Gatsby": Thirty-six years after 1961.-In: Collection 2, p. 120.
73 Piper H. D. Op. cit., p. 145; Doino V. A. Patterns in "The Great Gatsby". 1966-1967.-In: Collection 3, p. 160-164.
74 Еblе К. The Graft of revision: "The Great Gatsby", p. 115.
75 Морозова Т. Л. Назв. работа, с. 369-371.
76 Callahan J. F. Op. cit., p. 31.
77 The Great Gatsby, p. 62.
78 Ibid., p. 187.
79 Doyno V. Op. cit., p. 161.
80 Cowley M. Op. cit., p. XV1II.
81 Seldes G. New York chronicle.-In: Collection 3, p. 125-126.
82 Beach J. W. The twentieth century novel. New York; London. 1932, p. 14.
83 Ibid., p. 187-360.
84 Piper H. D. F. Scott Fitzgerald, p. 127-133.
85 Hoffman F. J. The modern novel in America. Chicago, 1963 p. 91.
86 Cowley M. Introduction, p. XVIII.
87 Цит. по: Hoffman F. J. ed by "The Great Gatsby", p. 179.
88 Samuels Ch. T. The greatness of "Gatsby".- In: Collection 3. p. 152.
89 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 88.
90 Там же, с. 88-91.
91 Блэкмур Р. П. Генри Джеймс.- В кн.: Литературная история Соединенных Штатов Америки. Т. 3. М., 1979, с. 154.
92 Burnam T. The eyes of Dr. Eckleburg: A re-examination of "The Great Gatsby".-In: Collection 2, p. 106.
93 Об этом применительно к «Великому Гэтсби» писал Дж. Миллер-младший (F. Scott Fitzgerald..., p. 111).
94 Конрад Д. Предисловие к роману «Негр с «Нарцисса».- Вопросы литературы, 1978, № 7, с. 208.
95 Соколянский М. Джозеф Конрад о литературе.- Вопросы литературы, 1978, № 7, с. 203.
96 Там же.
97 Green G. Introduction.- In: The Bodley Head Ford Madox Ford. London, 1962, vol. 1, p. II.
98 Ford М. Г. The good soldier. (1915). Harmondsworth, 1977, p. 213.
99 Бахтин М. Слово в романе.- Вопросы литературы и эстетики. М, 1975, с. 126.
100 Бахтин М. Слово в романе, с. 127-128.
101 Perosa S. Op. cit., p. 80.
102 Mizener A. The far side of paradise. Boston, 1965, p. 184.
103 Perosa S. Op. cit., p. 62.
104 Samuels С. Т. Op. cit., p. 155.
105 Bewley M. Op. cit., p. 134.
106 Schneider D. 1. Color-symbolism in "The Great Gatsby".- In: Collection 3, p. 145-150.
107 McDonnell R. F. Eggs and eyes in "The Great Gatsby".- Modern fiction studies. Spring 1961, vol. 7, N 1, p. 32-36.
108 Miller J. E. Jr. Op. cit., p. 125.
109 Горбунов Л. Н. Назв. работа, с. 94.
110 Doyno V. A. Op. cit., p. 166.
111 Randall J. Н. III. Jay Gatsby's hidden source of wealth 1967 - In: Collection 3, p. 191.
112 Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л 1972, с. 226.
113 Там же, с. 227.
114 Готорн Н. Алая буква. М., 1957, с. 42.
115 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 174.
116 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976, с. 285.
117 McDonnell R. F. Op. cit., p. 36.
118 Goldhurst W. F. Scott Fitzgerald and his contemporaries. Cleveland; New York, 1963, p. 38.
Далее: глава четвертая Развитие темы
Опубликовано в издании: Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. Киев: Наукова думка, 1984 (монография).