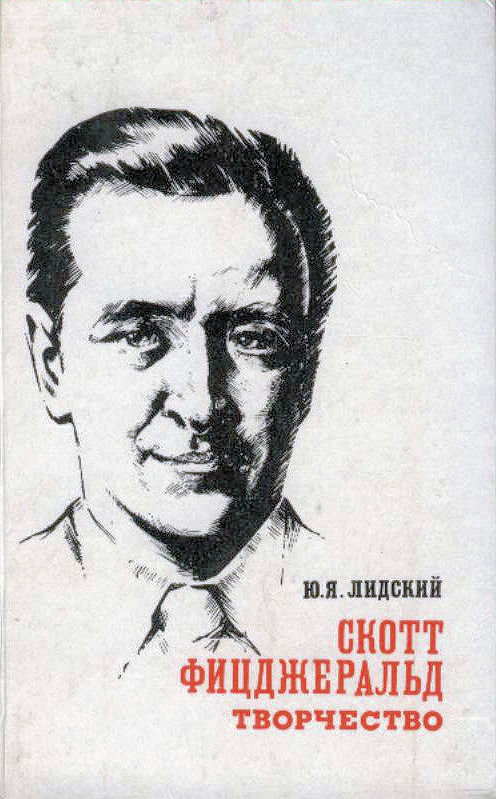Юрий Яковлевич Лидский
Скотт Фицджеральд - Творчество
Глава четвертая
Развитие темы
Первого мая 1925 г. Фицджеральд пишет Перкинсу: «Самая счастливая моя мысль — о новом романе: это нечто действительно новое по форме, замыслу, структуре —та модель века, которую ищут Джойс и Стайн и которую не нашел Конрад» [1]. С этого времени почти в каждом письме своему редактору писатель упоминает новый роман. На первых порах сообщения о работе весьма оптимистичны, видно, что автор полон надежд на скорое завершение произведения, но постепенно тон писем меняется, становится ясно, что труд над книгой затягивается, а подчас и вовсе прерывается. «Великий Гэтсби» вышел из печати 11 апреля 1925 г., второй зрелый роман Фицджеральда был опубликован 12 апреля 1934 г., девять лет спустя.
Столь длительный промежуток объясняется целым комплексом субъективных и объективных причин. Именно в это время на работе, настроении, здоровье писателя начинает серьезно сказываться рассеянный образ жизни, который стал привычным для супругов Фицджеральд. Они слишком много пьют, слишком часто, пожалуй, уезжают то в Париж, то на Ривьеру, где развлечения отнимают немало времени и сил и требуют все больших расходов. В 1927 г. писатель едет в Голливуд, но на поприще сценариста успеха не имеет. Это и не удивительно. Фицджеральду в Голливуде приходилось трудно, потому что кинобизнес требовал ремесленных поделок, а писатель очень серьезно отнесся к своему новому занятию. Кроме того, режиссеры и продюсеры совсем или почти совсем не считались с творческими замыслами сценаристов. Первый контакт с Голливудом оказывается сравнительно непродолжительным. Попытки как-то упорядочить жизнь не удаются. В апреле 1930 г. Зельду приходится надолго поместить в психиатрическую клинику в Швейцарии, выясняется, что заболевание имеет хронический характер.
Неверно было бы думать, что только печальные семейные обстоятельства мешали скорому завершению романа. Новое большое произведение с самого начала было задумано как «модель века», то есть книга значительного социального звучания. Идейные и формальные искания Фицджеральда проходили на фоне все сильнее ощущавшегося общественного неблагополучия. Последовательность многочисленных вариантов романа отражает тенденцию к углублению и заострению социальных мотивов [2]. Над окончательным вариантом книги «Ночь нежна» писатель начал работать уже в 1932 г. Хотя действие романа охватывает только послевоенное десятилетие, на нем лежит несомненный отсвет «красных тридцатых».
Двадцать девятого октября 1929 г. биржевая паника в Нью-Йорке возвестила начало сильнейшего экономического кризиса, охватившего страны Запада. Тогдашний президент США Гувер не уставал повторять, что национальная экономика «в основном здорова», но число веривших ему с каждым днем уменьшалось. Иначе и быть не могло. Кризис длился четыре года и сменился длительной депрессией. Правительство оказалось бессильным перед лицом событий, вызвавших мощную волну недовольства. В эти же годы резко усиливается фашизм, возрастает угроза новой мировой войны. Взаимосвязь проблем экономики, философии, политики и этики для каждого мыслящего человека становится очевидной. Все это и определяет характер прогрессивной литературы США в тридцатые годы. Среди лучших реалистических произведений этого периода роману «Ночь нежна» принадлежит одно из самых почетных мест.
М. Бракколн подробно проследил интереснейшую историю создания этой.книги и показал, что рукописи вариантов «Ночи» хронологически распадаются на три группы. Основу сюжета первой из них составляет матереубийство, совершенное Френсисом Меларки, голливудским звукооператором, который попадает на Ривьеру и стремится войти в круг очень богатых людей. С этой группой рукописей связаны названия: «Наш тип», «Парень, который убил свою мать», «Дело Меларки», «Мировая ярмарка». В сюжете второй группы рукописей мотивы матереубийства отсутствуют. Героем становится продюсер Левеллин (Лью) Келли, разочаровавшийся в Голливуде и отплывающий в Европу. Третья группа рукописей связана с историей Дика Дайвера. Она-то в основном и составила роман, в который вошла также значительная часть материала из первой группы и незначительная часть из второй. Важно отметить, что в процессе работы писатель несколько раз менял повествовательную перспективу [3].
Относительно прохладную встречу, оказанную роману критикой и публикой, исследователь объясняет тем, что в 1934 г. бестселлерами в США были исторические и эскейпистские произведения [4]. Разумеется, необходимо учитывать, что, подобно роману «Великий Гэтсби», новая книга далеко не сразу была понята и оценена по достоинству. Исходя из времени действия, многие решили, что писатель продолжает разрабатывать уже изжившую себя тему «века джаза», некоторые же заметили только автобиографические мотивы. За прошедшие десятилетия немало сделано для верной и всесторонней оценки романа, но и относительно недавно еще звучали критические голоса, заставляющие вспомнить кое-какие наивные суждения 30-х годов. Остановимся кратко на наиболее существенных моментах.
Интересные замечания обнаруживаются уже в некоторых ранних отзывах о романе. Так, Д. Чемберлейн, оценивая произведение в общем положительно, отмечает присущее писателю мастерство психологического анализа и умение незаметно создать ощущение ужаса [5]. Х. Греттен подчеркивает социальную тенденцию романа и, в отличие от Д. Чемберлейна, не считает композицию неудачной [6]. Вопросы, так или иначе затронутые первыми рецензентами, в дальнейшем неоднократно привлекают внимание исследователей. Постепенно расширяется сфера критических наблюдений. Но обнаруживаются и попытки игнорировать идейное содержание книги. М. Маршалл, например, в 1941 г. объявила ее всего лишь «путаным упражнением (Фицджеральда) в жалости к самому себе» [7]. Совершенно неудачным, причем не только в отношении композиции, находит роман Д. Берримен [8]. Э. Уэннинг и Ч. Уэйр-младший полагают, что Фицджеральд не дает ответа на вопрос, почему Дик Дайвер проигрывает свою битву [9].
Многие исследования последующих лет отмечены большой глубиной и наблюдательностью, но продолжают появляться все новые статьи, либо принижающие значение романа, либо пытающиеся полностью «привязать» его к той или иной философской школе. Известно, например, утверждение, что «Фицджеральд вновь соскользнул в субъективную автобиографию» [10]. Л. Фидлер объявляет «Ночь» лучшим примером творческой незрелости автора, который якобы так и не смог овладеть писательским мастерством, и в частности повествовательной перспективой [11]. У. Ф. Холл исследует книгу с фрейдистских позиций, игнорирует ее социальное содержание [12].
Большая критическая литература, как правило, судит о романе объективнее, хотя и здесь некоторые положения исследователей весьма спорны. С. Пероза вполне обоснованно отмечает влияние Генри Джеймса на Фицджеральда, точно характеризует Барбана, констатируя его общность с Николь, в поражении Дика находит объективный элемент трагедии. Критик считает, что Фицджеральд достиг живописности за счет драматической плотности, а характеры раскрыл в действии [13]. А. Майзенер обнаруживает в произведении два существенных недостатка: не вполне выдержанное единство образа Дика и не до конца решенную проблему повествовательной перспективы. Все же исследователь полагает, что многочисленные идейно-художественные достоинства делают книгу «Ночь нежна» лучшим и наиболее серьезным романом Фицджеральда [14]. К. Кросс справедливо констатирует социальное звучание произведения, а в самопожертвовании Дика видит трагическое величие, находит, что Николь олицетворяет Америку тех лет («красивая, но безумная»), а связь Дика с Розмэри определяет как начало нравственного падения героя и обращает внимание на противоположно направленную динамику образов Дика и Николь [15]. Последнее, впрочем, много раньше заметил М. Гайсмар, писавший, что по мере утраты Диком контроля над жизнью семьи, контролирующей силой становится Николь [16]. Р. Скляр особенно подчеркивает влияние Шпенглера на Фицджеральда; критик считает повествовательную перспективу романа (относительно точки зрения Розмэри) не вполне удовлетворительной, обращает внимание на сопоставление Дика с Грантом и Норта с Линкольном, на сходство тем Фицджеральда и Драйзера к, главное, подчеркивает социальный смысл произведения [17]. Роман социальный, отражающий историю США как торжество собственности над человечностью видит в «Ночи» Д. Ф. Кэллэхен и прямо пишет о теснейшей связи Уорренов и Барбана, образующих военно-промышленный «картель» [18].
Другие наблюдения в основном представляют собой модификацию уже изложенных взглядов, но некоторые важные частности необходимо упомянуть. Так, Ю. Уайт полагает, что образ Дика психологически в значительной мере углубляется, поскольку герой полностью отдает себе отчет в тяжести принимаемой им на себя ноши и, любя Николь, действует исключительно в ее интересах [19]. У. Доэрти, рассмотрев образность «Оды к соловью» Китса, слова из которой стали названием книги, находит множество тонких параллелей между обоими произведениями. Наиболее важной представляется противопоставление дневного мира ночному [20]. Д. Миллер-младший замечает, что в конце романа психологическое состояние Дика и Николь противоположно начальному [21]. Наконец, по мнению Г. Д. Пайпера, Дик видит внутреннюю гниль того сверкающего мира, который открывает Розмэри. Поэтому, считает критик, Дик более трагичен, чем предшествующие герои Фицджеральда [22].
Советская «фицджеральдиана» уже имеет несколько значительных трудов, рассматривающих идеи и эстетику романа «Ночь нежна». В интересном анализе М. О. Мендельсона, на наш взгляд, особенно существенны следующие положения. «Основное в книге, — пишет критик,— это тема растлевающего воздействия денег. Она разрабатывается в двух аспектах. Перед ними прежде всего трагедия Дика Дайвера, которого купили, чтобы он вылечил Николь, что погубило его талант. Вместе с тем Фицджеральд подробно изображает духовную деградацию богатых американцев и англичан, непомерно много пьющих, живущих нелепой, бессмысленной, недостойной жизнью» [23]. Определив основную тему, М. О. Мендельсон приходит к справедливому заключению, что писатель «стремится придать конфликту романа определенную политическую окраску» [24].
Сжатый, но глубокий и содержательный анализ принадлежит А. Старцеву. Исследователь верно, нам кажется, рассматривает проблему отношения писателя к очень богатым людям. Фицджеральд, справедливо утверждает А. Старцев, «считает их замкнутой группой внутри нации, настолько привилегированной, кастово солидарной и чуждой народу, что постоянно сравнивает их с феодальной верхушкой в средневековой Европе» и даже время от времени приходит к заключению, что «они в некотором смысле вовсе не люди» [25]. Далее А. Старцев обнаруживает в структуре романа элементы поэтики кинематографа, доказывает, что писатель достаточно обосновал падение Дика, выясняет происхождение иллюзий героя, показывает, как с развитием действия меняется атмосфера книги, отмечает заострение социального мотива и рассматривает мотивы автобиографические.
Чтобы в дальнейшем не возвращаться к последнему из перечисленных вопросов, остановимся на точке зрения А. Старцева подробнее. Критик отмечает, что личный опыт писателя находит отражение в большинстве эпизодов, относящихся непосредственно к Дику Дайверу, и констатирует выполнение целых отрезков сюжета «по канве собственной биографии» Фицджеральда. Для знакомых с жизнью писателя справедливость наблюдения А. Старцева неоспорима. Но в отличие от некоторых зарубежных литературоведов А. Старцев превосходно понимает ложность грубо биографического подхода к проблеме художественного претворения действительности. В этом плане особенно важно замечание критика, что «Ричард Дайвер не автобиографический образ, и сближение его с автором допустимо лишь в очень ограниченных рамках» [26]. Эту точку зрения разделяют и другие советские исследователи.
Подробно проанализировал роман А. Н. Горбунов. Критик справедливо подчеркивает, что во второй половине 20-х годов растет интерес Фицджеральда к творчеству Бальзака, Стендаля и Теккерея. Думается, само время «толкало» писателя к этим авторам и внушало ему желание создать, как пишет А. Н. Горбунов, «произведение, напоминающее «Ярмарку тщеславия» Теккерея, т.е. большой философско-психологический роман, подробно анализирующий отношения героя с окружающим его обществом и рисующий сатирическую картину нравов этого общества» [27]. В то же время А. Н. Горбунов находит, что близость Фицджеральда к романтикам (Китсу) отнюдь не исчезает [28]. Весьма существенна также полемика исследователя с зарубежными критиками, преувеличивавшими влияние О. Шпенглера на Фицджеральда. Мы совершенно согласны с А. Н. Горбуновым, который далек от мысли полностью отрицать это влияние, но утверждает, что основополагающая идея Шпенглера о цикличности исторического процесса, якобы подобного жизни биологического организма, всегда была чужда Фицджеральду, как, впрочем, «и сугубо прагматический пафос выводов автора «Заката Европы» [29].
Несколько интересных наблюдений над романом принадлежат А. Звереву. Обсуждая отличие этого произведения от «Великого Гэтсби», критик правильно замечает: «Ночь нежна» — это драма конкретной человеческой личности, чей опыт отождествляется с судьбами «беспокойного» поколения 20-х» (I, 21). Для верной оценки книги важен следующий вывод А. Зверева: «Через несколько десятилетий герои, подобные Дику Дайверу, сделаются привычными в американском романе, исследующем феномен стирания индивидуальности, такой болезненно актуальный для современного буржуазного общества. «Ночь нежна» — книга, в полной мере сохраняющая и сегодня остроту своей проблематики» (I, 24). Нельзя не согласиться с мнением критика относительно уже упоминавшегося композиционного просчета Фицджеральда: «...линия, связанная с Розмэри, слишком надолго исчезает из рассказа, слишком неожиданно обрывается. Но и прочерченная пунктиром, она необходима, чтобы «внутренние противоречия идеалиста» раскрылись на истинной глубине, придав законченность и объемность теме, столь важной для этого романа,— теме «компромиссов, которые навязывают герою обстоятельства» (I, 22).
Почти все писавшие о романс «Ночь нежна» так или иначе затрагивали вопросы композиции и повествовательной перспективы в связи с «точкой (углом) зрения» Розмэри. Фицджеральд, разумеется, понимал, что Розмэри «слишком надолго исчезает» из повествования, и серьезно обдумывал переработку романа, которая так и не была осуществлена. Уже после смерти писателя критик Малькольм Каули, основываясь на некоторых его заметках, «выпрямил» структуру, восстановил нарушенную автором хронологию событий и опубликовал «свой» вариант «Ночи». С тех пор обе версии неоднократно переиздавались. Сторонники есть у той и у другой, но, по-видимому, попытку Каули никак нельзя считать удачной. В этом "отношении мы полностью разделяем позицию большинства советских и многих зарубежных критиков. Едва ли есть смысл вдаваться здесь в полемику: наше суждение основывается на конкретном анализе.
Черты некоторого содержательного и формального сходства между «Великим Гэтсби» и новым романом Фицджеральда весьма заметны, какой бы аспект произведения ни рассматривался, но, вероятно, важнее и не менее заметные черты принципиальных отличий. В первую очередь это относится к сюжету книги, который, с одной стороны, представляется более простым, а с другой,— обретает несколько особенностей, позволяющих существенно расширить сферу отображения действительности. Относительная несложность сюжета «Ночи» определяется наличием только одной основной линии, связанной с историей Дика (Ричарда) Дайвера, несомненно единственного на этот раз главного героя.
Начало действия относится к весне 1917 г. Американец Дик Дайвер, молодой способный психиатр, приезжает в Европу для завершения профессиональной и научной подготовки. Обстоятельства складываются так, что он помогает лечить очень красивую и совсем еще юную Николь Уоррен, происходящую из семьи чикагских миллионеров. Психическое расстройство девушки — результат инцtстуального акта, совершенного ее отцом. Полюбив Николь, состояние которой улучшалось, Дик, несмотря на печальные медицинские прогнозы коллег, женится на ней. Он надеется не только добиться ее полного выздоровления, но и успешно продолжить свою научную и лечебную деятельность. Николь действительно окончательно выздоравливает, но параллельно этому длительному процессу идет процесс постепенной деградации Дика, которая становится совершенно очевидной, когда Николь больше не нуждается в моральной поддержке и медицинской помощи мужа. Нравственный крах Дика сопровождается крушением семьи: Николь вступает в новый брак, а Дик возвращается в Америку, где следы его теряются в одном из захолустных городков штата Нью-Йорк.
Среди сюжетных линий заметно выделяется та, которая связана с историей Эйба Норта, второго по значению героя романа. Эйб, талантливый молодой композитор, гостит у Дайверов, близким другом которых он стал, когда Дик и Николь только поженились. Эйб давно не пишет музыку, очень много пьет, деградирует как личность и в конце концов уезжает в Америку, где надеется восстановить свою пошатнувшуюся профессиональную репутацию. Жестоко избитый в пьяной драке, Эйб гибнет, так и не осуществив своих намерений. Явное сходство сюжетных линий Дика и Эйба немаловажно для определения тематики и идейного содержания произведения. Заметно, что линия Норта, обрываясь с его смертью задолго до окончания романа, дает своего рода проекцию линии главного героя. Первой существенной особенностью сюжета оказывается наличие не двух главных линий, как это было в «Гэтсби», а важной дополнительной линии, по значению отчетливо выделяющейся среди всех остальных, связанных с историями или судьбами персонажей.
По ходу действия Эйб Норт как-то поясняет Розмэри: «...дело... в том, что чета Дайверов, именно чета Дайверов занимает в жизни своих друзей особенное место» (II, 52). Действительно, немногие годы, прожитые Дайверами более или менее благополучно и даже счастливо, позволили их семье стать своеобразным центром притяжения, естественно вовлекающим в свою сферу судьбы других персонажей. Отсюда и дополнительные сюжетные линии, так или иначе взаимодействующие с главной. Такая особенность сюжета расширяет возможности избранной автором художественной модели действительности и обусловливает естественность очень важного социального фона. Художественная модель оказывается целостной, значительная продолжительность действия позволяет развернуть и показать в жизненных ситуациях перспективу естественно связанных между собой линий сюжета. Целая иерархия образов в совокупности составляет выразительный социальный портрет общества.
Органичное сочетание расширенного сюжета и фона — само по себе проявление тенденции к серьезному социальному анализу, ибо позволяет раскрыть весьма многообразную тематику произведения, обнаружить многозначительные реальные связи. Целостность создаваемой таким образом картины приводит к восприятию случайных, на первый взгляд, действий персонажей как закономерных. Подобный сюжет как бы скрывает условность художественной модели. Отсюда сосредоточение внимания на условном настоящем, почти полное отсутствие символики, заметная конкретизация, проявляющаяся во многих элементах образности и, что не менее важно, в характеристике действующих лиц.
Когда весной 1917 г. Дик Дайвер впервые приезжает в Цюрих, он имеет прозвище «счастливчик Дик», все ему удается, в свои двадцать шесть лет он подаст большие надежды и не знает неудач. Даже война пощадила его, «потому что Дик уже тогда представлял собой слишком большую ценность, слишком солидное капиталовложение, чтобы пускать его на пушечное мясо» (II, 128). Нравственное падение доктора Дайвера происходит настолько постепенно и незаметно, на протяжении такого значительного периода времени, что лишь с непоправимым опозданием этот блестящий психиатр отдает себе отчет в случившемся: ушли лучшие годы, растрачены силы, жизнь не удалась.
Зарубежные критики, как упоминалось, неоднократно утверждали, что Фицджеральд недостаточно обосновывает печальную участь Дика. Едва ли с этим можно согласиться. Если бы писатель задался целью создать художественное психологическое исследование о психиатре, взявшемся за невыполнимую профессиональную задачу и только, нам пришлось бы говорить о совсем другом романе. Но Фицджеральд писал не о крахе семьи, а о крушении Дика Дайвера, причем особенно выделял именно социальные мотивы как основные, дающие достаточное обоснование происшедшего. «Ночь нежна» — книга прежде всего о социальной трагедии личности. Из этого вовсе не следует, что образ Дика схематичен, иллюстративен или плохо мотивирован. Высокое художественное качество романа обусловлено, помимо прочего, как раз тем, что в образе Дика социальный аспект проявляется чаще всего в показываемых изменениях психологии героя, его реакциях, эмоциональных действиях. Социальное в романе есть, конечно, и «на поверхности», но преимущественно дается через психологическое.
Дик действительно любит Николь и вовсе не претендует на ее деньги. Он не продается Уорренам, просто «так получается», потому что объективная логика событий имеет собственные законы. Они-то и проявляются в катастрофе, постигшей незаурядного человека, который отлично разбирается в сложнейших субъективных проблемах души, но ничего не смыслит в проблемах социальных. Сила этого характера в немалой степени видна в качестве его любви. Трагедия героя определилась уже тогда, когда он решил связать свою судьбу с Николь, но Дик, конечно, этого не понимает, как, впрочем, и его коллеги, отговаривающие его от брака только на основании медицинских прогнозов. Поэтому, заметим кстати, важно, что как раз предсказания врачей оказываются ошибочными.
Глубина и жизненность образа Дика (а следовательно, в значительной мере существенная социальная проблематика романа) обусловливаются как раз тем, что писатель смог представить героя как благородную и привлекательную личность. Показывая серьезность заболевания Николь, Фицджеральд добивается нескольких целей, и одной из них является прямая или косвенная характеристика Дика, сознательно взявшего на себя почти невыносимую тяжесть. Особенное качество любви Дика проявляется в первую очередь в том, как он щедро тратит огромную душевную энергию, добиваясь исцеления любимой. При всем том именно принадлежность Николь к миру самых богатых и все вытекающие отсюда последствия определяют нравственное крушение героя. Другими словами, если бы Николь не была так богата, брак доктора Дайвера не привел бы к таким печальным результатам. Отец Николь, привезший дочь во время войны в Европу на американском крейсере, объясняет, как это удалось: «Замечу в скобках... что, как говорится, деньги не помеха» (II, 143). Деньги не помеха для миллионера, совершившего инцест, но они оказываются непреодолимой помехой в жизни доктора Дайвера. В образе Дика отражается нравственная несостоятельность большого богатства. Не ограничиваясь этим, Фицджеральд через образ героя (разумеется, и другими средствами тоже) неразрывно связывает собственно нравственный аспект с аспектом социальным.
Возникает вопрос о реальности подобной ситуации вообще. Мог ли доктор Дайвер, успевший, помимо прочего, познакомиться с сестрой Николь Бэби, истинной и здоровой представительницей Уорренов, не понимать, чем грозил ему такой брак? При всех отличиях Дика от Гэтсби оба эти образа имеют важную общую черту — каждый воспринимает действительность по-своему романтически. Чем это объясняется? В случае Дика ответ оказывается более сложным. Два момента здесь особенно существенны. Мы видели, что участие в сражениях мировой войны позволило Гэтсби проявить незаурядное мужество, но вовсе не отразилось на его интеллектуальном и душевном состоянии. Этого никак нельзя было бы сказать о докторе Дайвере, но Дик, как мы знаем, не воевал, что «со значением» неоднократно подчеркивается в романе. Из отсутствия военного опыта проистекает в определенной мере некоторая отмечавшаяся критикой наивность или незрелость героя [30].
Еще более важно, что Дик — американец, а не европеец. Скажем сразу, что сопоставление Европы и Америки [31] в романе по своему значению далеко выходит за пределы характеристики героя, но «американизм» Дика крайне существен для понимания его образа. А. Старцев справедливо подчеркивает специфическую форму американских иллюзий и американского оптимизма Дика, отмечает социально-исторический характер этих иллюзий. Если молодой европеец в 1917 г. и мог так воспринимать мир, что вообще маловероятно, то лишь в исключительном случае. Для неискушенного американца, не прошедшего к тому же окопную школу, романтическое мировосприятие оказывается естественным: «Когда Дик приехал в Цюрих, — не без мягкой иронии рассказывает автор,— у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку, но все же предостаточно: то были иллюзии вечной силы, и вечного здоровья, и преобладания в человеке доброго начала,— иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок, под волчий вой убаюкивавших своих младенцев, напевая им, что волк далеко-далеко» (II, 131). В начале 30-х годов мыслящий читатель уже понимал смысл такой обобщенно-аллегорической характеристики без развернутых пояснений, но тема существенной связи времен, важная не только для понимания образа Дика, требовала дополнительной конкретизации.
Дик Дайвер не раз сопоставляется в романс с генералом Грантом [32]. Не останавливаясь на отдельных характерных тропах и косвенных свидетельствах, рассмотрим прямые указания на эту параллель. Доведя историю Дика до 1919 г., автор от собственного имени замечает: «Сказанное выше звучит как начало биографии, но без обнадеживающего намека, что героя ждет сложная и увлекательная судьба и что он уже слышит ее зов, как слышал генерал Грант, сидя в мелочной лавочке в Галене» (II, 131). В заключительных строках романа звучит несобственно-прямая речь Николь: «Может быть, уговаривала она себя, его слава еще впереди, как было у Гранта в Галене. Уже после этого пришла от него открытка с почтовым штемпелем Хорнелла, совсем крошечного городишка недалеко от Женевы; во всяком случае, ясно, что он и сейчас где-то в тех краях» (II, 346).
Особенное значение этих двух сопоставлений несомненно уже потому, что между ними — вся показанная в романе история Дика Дайвера. Нетрудно заметить, что параллель с Грантом, помимо внешней стороны, имеет существенное содержательное значение. Уволенный из армии за злоупотребление спиртными напитками, Грант жил в Галене, пока не возглавил отряд добровольцев. Вскоре Грант, самый талантливый полководец Севера в гражданской войне 1861 —1865 гг., принимает командование всеми вооруженными силами Севера и одерживает блистательные победы над армиями южан. Грант был настолько популярен, что на два срока подряд избирался президентом США (1869—1877), но выдающийся военачальник оказался неумелым и даже наивным государственным деятелем и стал жертвой политических и иных спекулянтов. Коррупция администрации при Гранте достигла небывалых размеров, и после 1877 г. его карьера пришла к бесславному концу. Внешнее сходство судеб Гранта и Дайвера очевидно.
В первый раз Дайвера с Грантом сопоставляет в романе «всеведущий» автор, точно определяющий начало существенной истории Дика как начало тех его отношений с Николь, которые выходят за рамки выполнения врачебного долга. Связанная с указанной параллелью и отмеченная критикой [33] «военная» образность книги как бы предопределяет характер этих отношений. То, что в начале повествования может показаться безоблачной семейной жизнью, на самом деле имеет характер тяжелого сражения. В тот момент, когда Дик принимает решение, он, конечно, не предвидит, к чему оно приведет, и, естественно, автор имеет все основания проводить параллель, потому что в 1919 г. для героя все впереди точно так же, как для Гранта, когда он коротал время в Галене. Значительно сложнее интонация второго прямого сопоставления. В несобственно-прямой речи Николь именно ее голос преобладает, когда упоминается Грант в Галене. Заметим сразу, что теперь сопоставление может казаться закономерным только Николь, которая «уговаривает себя», пытаясь успокоить свою совесть. Объективная же интонация автора, грустно-иронический характер которой особенно чувствуется в завершающем роман «комментарии» к сопоставлению, ясно свидетельствует, что в данном случае у Дика, в отличие от Гранта в Галене, впереди ничего нет. Все сказанное относится в основном к внешней стороне параллели Грант — Дайвер, но ее внутреннее содержание значительно важнее для понимания образа героя.
Подобно Гранту, Дик Дайвер думал, что «волки далеко», когда они были рядом. Оптимизм его, как упоминалось, основывался на романтических представлениях, коренившихся в невозвратимом прошлом, поэтому падение его и было предопределено, как было закономерным падение Гранта, всеми оставленного и впавшего в бедность. Победа Севера над Югом дала, как известно, мощный импульс развитию капитализма в США, и тенденция торжествующего прагматизма пришла в резкое противоречие с идеалами всеобщего благополучия. «Позолоченный век» нанес первый сильный удар по мифу о равных возможностях для каждого. Деньги обнаружили свою злую силу, ту самую, которой много позже Дик Дайвер мог противопоставить только силу своего характера, своей личности. Так судьба главного героя получает конкретное историческое обоснование. Здесь заметно, конечно, упоминавшееся сходство Дика с Гэтсби, но трагедия доктора Дайвера, сохраняя все черты трагедии именно американской, по своему значению далеко выходит за собственно национальные рамки.
Прямые и косвенные указания на то, как деньги подчиняют и разрушают личность, чрезвычайно важны, и значение их подчеркивается при сопоставлении с начальными планами и жизненным кредо героя. В ответ на вопрос коллеги Дик, еще не женившийся и не успевший утратить своих иллюзий, отвечает: «Намерение у меня одно, Франц: стать хорошим психиатром, и не просто хорошим, а лучшим из лучших» (II, 147). Много позднее Николь обращает внимание на то, что Дик записался в гостинице «Мистер и миссис Дайвер», хотя следовало бы записаться «Доктор и миссис Дайвер». Как раз в тот момент, когда Дик перестает ощущать себя профессионалом, Николь вспоминает: «...ты сам всегда меня учил, что работа самое главное для человека... ты говорил, человек должен быть мастером своего дела» (II, 180). Каковы же прямые и косвенные свидетельства того, как деньги Уорренов становятся между Диком и делом его жизни?
Когда Дик женится, он думает, что сможет полностью «отгородиться» от денег Николь, тратить только заработанное, но появляется ребенок, приходится идти на уступки: «Но это же неразумно, Дик, нам ведь и в самом деле нужна квартира побольше. Зачем тесниться и мучить себя только из-за того, что уорреновских денег больше, чем дайверовских?» (II, 178). Сопротивляться трудно именно потому, что уступки кажутся безобидными, желания любимой — естественными, а отказ представляется оскорбительным для любви и даже опасным, так как может спровоцировать рецидив болезни Николь. С каждой уступкой (квартира, вилла и так далее, главное же — бесцельная трата времени и сил) Дик теряет какую-то часть себя. Наступает момент, когда он думает: «Затеи Николь вторгались в его работу и мешали ей, кроме того, стремительный рост ее доходов в последнее время словно бы обесценивал эту работу. И еще: ради забот о ее здоровье он много лет притворялся...» (II, 190).
Мы намеренно оборвали цитату. Совершенно не важно, кем или как Дик притворялся, но очень важно, что, допустив элемент притворства как необходимый компонент своей духовной жизни, он годами так или иначе отказывается от самого себя, совершает насилие над собственной личностью. В конце концов Дик вынужден признать: «Он себя потерял, кто знает, когда, в какой именно час, день, неделю, месяц или год. Когда-то он умел проникать в суть вещей, решать самые сложные уравнения жизни, как простейшие случаи простейших болезней... Никогда он не был так уверен в себе, так внутренне независим, как в пору своей женитьбы на Николь. И тем не менее его купили, как gigolo, и каким-то образом он допустил, что весь его арсенал оказался упрятанным в уорреновских сейфах» (II, 224). Теперь уже понятно, что ему нечего предложить Розмэри, что он слишком много пьет, что битва проиграна. Вот как он признается в этом Розмэри. «Это правда,— сказал Дик...— И случилось это уже давно, только было незаметно поначалу. Внешне все некоторое время остается по-старому после того, как внутри пройдет трещина» (II, 314). Когда Дик расстается с Николь и возвращается в Америку, он вновь, как когда-то, ездит на велосипеде, работает над книгой, один раз удачно выступает с докладом, но сообщение обо всем этом на последней странице романа звучит горькой иронией и готовит уже упоминавшийся иронический же «комментарий» к последнему сопоставлению с Грантом.
Существенной чертой этой исторической параллели является также выраженный элемент снижения, обнаруживающийся тем яснее, чем больше проявляется нравственное падение Дика. В отличие от Гранта, Дайвер, как он ни привлекателен, ни в какой момент своей «карьеры» не достигает величия. Его нельзя назвать великим даже в том смысле, в каком этот эпитет применялся к Гэтсби. Дик — только жертва истории, ему не дано было развить дарованные природой таланты. В свете сопоставления с Грантом неприятные ситуации, в которые попадает все больше и чаще пьющий Дик, выглядели бы просто пародийными, если бы в них не отражалось крушение личности. В этом плане особенно интересны некоторые эпизоды: пьяная драка с шоферами такси и буйство в полицейском участке (в результате Уоррены приобретают моральное превосходство над героем), скандал в клинике из-за того, что от доктора Дайвера заметно пахнет вином, и, наконец унизительное для Дика «единоборство» с пьяной кухаркой, поведение которой весьма похоже на поведение самого Дика в эпизоде с шоферами и полицией.
Конкретизация и снижение (сравнительно не только с Грантом, но и с Гэтсби) имеют непосредственное отношение к еще одной важной черте характера героя. Дик Дайвер — индивидуалист. Его индивидуализм обусловлен теми же причинами, что и его оптимизм и иллюзии. Фицджеральд всегда высоко ценил личностные качества людей, и трактовка личности в связи с образом героя обретает в романе весьма существенный смысл. Крушение индивидуализма Дика свидетельствует о заострении социальной тенденции в творчестве писателя.
Когда Дик Дайвер совершает обход клиники, он беседует с очень интересными больными. Среди них есть дама, которая лишена музыкального слуха, но воображает себя такой же серьезной музыкантшей, какими стали ее одаренные сестры. От нее Дик идет к эксгибиционисту, верящему, что многие проблемы были бы решены, если бы ему позволили пройти нагишом от Триумфальной арки до площади Согласия. Потом Дик навещает еще несколько больных. Все случаи, на которых писатель останавливается подробнее, имеют одну любопытную общую черту: психическое расстройство является следствием страстного желания получить или сделать то, что получить и сделать не дано. Безумный мир психиатрической клиники предстает как отражение того большого мира, которому принадлежат не больные, а доктор Дайвер. Ведь и ему не дано осуществить свои желания. Нравственное расщепление личности Дика оказывается сродни заболеваниям его пациентов. Более того, в деградации героя наступает такой этап, когда он как личность существовать уже не может. Автор не показывает этой стадии, но красноречиво намечает ее, сближая Дика с ничтожными Маккиско, Дамфри и Кампионом.
В результате того, что образ Дика Дайвера полностью раскрывается как бы в пересечении социально-исторического времени и современности, связанная с фигурой героя проблематика, естественно, получает не простую политическую окраску. Известно, что Фицджеральд рассматривал вариант романа, в котором Дик отправляет своего сына получать образование в Советскую Россию. Эта наметка не получила дальнейшего развития, и едва ли есть смысл преувеличивать се значение. Но вот Дик слушает рассказ о том, как Барбан помог князю Челищеву бежать из России (они застрелили трех красноармейцев-пограничников), и думает: «...три молодые жизни — непомерно большая цена за этот мумифицированный пережиток прошлого» (II, 221). Здесь в самой лексике отражается и то, что Дик остается индивидуалистом, и то, что самый его индивидуализм подвергается некоторой внутренней критике, неожиданно обретая политическую окраску. В целом же значение политических тенденций романа тем больше, что они находят отражение не только в образе главного героя.
Эйб Норт во многом похож на Дика Дайвера, но образ его имеет отличия, суть которых отнюдь не сводится только к индивидуализации. Они исполнены смысла, постепенно раскрывающегося в процессе непосредственного действия и в некоторых полускрытых, но все же заметных средствах характеристики, обдуманно избранных писателем. Именно эти средства позволяют, между прочим, судить о том, как Фицджеральд, отталкиваясь от прототипа (прототипом Норта был известный американский писатель Ринг Ларднер), создает не более или менее верный портрет реального человека, а глубоко содержательный художественный образ. Здесь прежде всего, вероятно, нужно отметить сопоставления, прямо вовлекающие собственно исторические мотивы. В характеристике Дика Дайвера и Эйба Норта мотивы эти выражены настолько целенаправленно, что допускают недвусмысленное толкование, не теряя при этом существенной многозначности.
Обсуждая значение имен героев, М. Бракколи с полным основанием, на наш взгляд, пишет, что некоторые имена имеют важный смысл, тогда как другие только намекают на знакомых писателя. В частности, исследователь считает, что имя Дайвер («diver» означает «ныряльщик») вполне подходит персонажу, «ныряющему» в безвестность с высоты заметного профессионального и общественного положения; имя Николь вызывает ассоциации со святым Николаем (а отсюда и с Санта Клаусом), но звучанием напоминает также слово «никель», что наводит на мысль о твердости и деньгах (словом «никель» американцы называют одну из мелких монет); Элберт Маккиско назван так, чтобы посвященные увидели отрицательное отношение Фицджеральда к литератору и издателю Роберту Макэлмону, с которым писатель поссорился в 1925 г. [34] То, что Норта, подобно Линкольну, зовут Эйб, могло бы восприниматься как случайность, если бы слишком многое в книге не свидетельствовало о противном.
Параллель Норт — Линкольн имеет внешнюю и внутреннюю стороны. «Длинное лицо» и «львиная грива» Норта напоминают известный портрет Линкольна. В романе немало говорится о «бесшабашном юморе» Норта, и читатель имеет возможность познакомиться с примерами его проявления. Известно, что публицистика Линкольна также отличалась юмором и остроумием. Вообще, сходные черточки облика и характерологических особенностей Норта и Линкольна достаточно заметны и без прямого упоминания президента США 1861—1865 гг., но, конечно, важнее внутреннее содержание параллели.
Линкольн был страстным, но непоследовательным сторонником освобождения негров, занимал компромиссную позицию, считая, что вопрос о рабовладении относится к компетенции каждого отдельного штата. Та же непоследовательность и склонность к компромиссам отличает и общую широкую программу Линкольна. Он, пусть не до конца, отдавал себе отчет в силе доллара, понимал, что денежный интерес далеко не всегда можно примирить с интересами людей, и, как правило, исходил из гуманистических соображений, что как бы отделяло Линкольна-человека от Линкольна — государственного деятеля. Таким образом, индивидуализм Линкольна находил своеобразное выражение: сам он поступал «по совести», но отстаивал и распространял систему, которая по природе своей была чужда гуманистической этике. Известный американский историк и литературовед В. Л. Паррингтон справедливо констатирует: «Линкольн считал свободно действующий стимул прибыли закономерной движущей силой общества, но хотел, чтобы участие в конкуренции было доступно всем на равных правах... Признав правомерность принципа эксплуатации, он встал на позицию мелкого капиталиста, который верил, что в Америке можно сделать капитализм демократическим при помощи простого средства: оставлять возможность эксплуатации открытой для всех граждан» [35]. Историческая несостоятельность компромиссной концепции Линкольна (особенно в ее личностном аспекте) «просматривается» в трагедии Эйба Норта. Дыхание истории вновь овевает страницы романа, но лишь выяснив значение черт сходства и отличия в образах Дика Дайвера и Эйба Норта, можно оценить глубину авторского замысла.
Дик не успел еще полностью разувериться в себе и в исходе предпринятого им шага, он еще полон иллюзий, когда Норт, по ходу действия, юмористически излагает свое нравственное кредо: «Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, просто сам не свой становлюсь» (II, 41). «Бесшабашный юмор» Норта почти никогда ему не изменяет, но юмористическая окраска высказывания далеко не всегда означает, что в него не вкладывается серьезный смысл. В одном эпизоде между Нортом и его женой Мэри происходит важный диалог: «Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, — сказала Мэри.— Так оно и есть,— подхватил Эйб.— И то, что случается после, тоже» (II, 72). Это кажется шуткой, но Эйб почти верит своим словам. Во всяком случае только необходимость утвердить и отстоять свою личность заставляет его изменить тон. Так, он не допускает по отношению к себе никакой снисходительности. Услышав ее в интонации Дика, Эйб тут же как бы бросает вызов другу, обещая закончить новое музыкальное произведение раньше, чем Дик допишет свой научный труд. Шутливую реплику жене от серьезной отповеди другу в романе не случайно отделяют всего несколько строк. Помимо собственно исторического обоснования печальной участи Норта, есть и связанное с ним обоснование «сюжетное», раскрывающееся в непосредственном действии.
Норт обаятелен, остроумен, прям, талантлив. Все эти качества, которым, кстати, вполне соответствует его «линкольнская» внешность, делают его заметной личностью, едва ли уступающей Дайверу, но очень скоро выясняется, что личность эта — с трещиной и некоторые основания для снисходительного топа у Дика действительно есть. Норт пьет, а напившись, утрачивает чувство ответственности, и без того расшатанное. Поэтому ему нельзя доверять ни в большом, ни в малом. В сущности, история Норта, представленная в романе менее обстоятельно, чем история Дика, раскрыта так же отчетливо и глубоко. Алкоголизм Норта — следствие важных причин, среди которых «потерянность» и «многолетняя обезоруживающая любовь к Николь» (II, 93) являются определяющими.
Фицджеральд не случайно подчеркивает, что в отличие от Дика Эйб в самом деле участвовал в боях. Норт имеет важные общие черты с Каррауэем. Действительно, в образе Норта отражается, помимо прочего, психология «потерянного поколения», что немаловажно для разработки темы утраченных иллюзий и кризиса индивидуалистического мировосприятия. «Эйб такой был приятный человек,— рассказывает Николь Розмэри.— Удивительно приятный. Давно, когда мы с Диком только поженились... он гостил у нас по целым неделям, и мы почти не замечали его присутствия. Иногда он играл, иногда часами просиживал в кабинете наедине со своей возлюбленной — немой клавиатурой» (II, 112—113). Есть в романе и еще одно важное указание: «От Эрла Брэди Розмэри знала, что Эйб — композитор, который очень рано и очень блестяще начал, но вот уже семь лет ничего не пишет» (II, 41). Эрл Брэди рассказывает Розмэри о Норте в 1925 г., значит, творчество композитора прекратилось в 1918.
Так становится понятным, что дом Дайверов стал пристанищем, в котором Эйб пытался обрести утраченное в окопах спокойствие духа. Тема американских иллюзий и разочарования в них звучит в сцене обсуждения вопроса, почему американцы спиваются чаще, чем европейцы. Незаметно подчеркивается связь давних исторических событий с историей совсем близкой, но не только сражения мировой войны и «американский миф» объясняют судьбу Норта. Мотив его любви к Николь звучит достаточно ясно не в одном эпизоде книги.
Сложность образа Норта не позволяет свести его проблему к личностному моменту неразделенной любви или чести, запрещающей посягать на жену друга. В неслучайном сходстве Дика и Эйба скрыт определенный смысл: если бы Норт оказался на месте Дайвера, ничто в его судьбе не изменилось бы. В его любви к Николь, как и в истории Дика, отражена проблема индивидуалистических поисков. Принадлежность Норта к «потерянному поколению» убедительно подчеркивает бесплодность такого индивидуализма, но, как и в «Гэтсби», писатель показывает, что корни индивидуалистического мировосприятия питаются не только кровью, пролитой в напрасных сражениях.
Элемент снижения в сопоставлении Норта с Линкольном заметен еще больше, чем в сопоставлении Дайвера с Грантом. Динамика образов Дика и Эйба отражает в этом отношении тонкое соотнесение их, в котором момент усиления мотива (Норт) имеет содержательное значение. Николь, рассказывая, каким хорошим был Эйб, вспоминает, между прочим, как он в шутку пугал служанку. В момент знакомства читателя с Нортом упоминается попытка напившегося композитора распилить (музыкальной пилой) официанта, чтобы «посмотреть, что у него внутри». Проявления «бесшабашного юмора» уже в этих случаях показательны, но писатель прослеживает тему до конца, и тогда она обретает звучание столь трагическое, что о юморе больше говорить не приходится.
Пародийный характер снижения абсолютно отчетливо виден в эпизоде неожиданного возвращения Норта (в Париж), когда все считают, что он отбыл в Америку. Из-за пьяного Норта, который, впрочем, говорит с Диком по телефону «авторитетно и важно, с оттенком деловой решимости» (II, 112), на Монмартре возникают «расовые беспорядки». Увы, даже мелкую проблему Норт уже не может разрешить благополучно. В результате его безответственных действий гибнет ни в чем не повинный человек [36] (а «убирать» приходится другим; из всех лиц, как-то замешанных в эту историю, только Норт, отплывший, наконец, на родину, так ничего и не узнал о трагическом исходе происшествия). Связанная с образом Норта линия снижения находит показательное завершение: Линкольн был убит агентом своих политических противников; Норта до смерти избили в пьяной драке в каком-то подпольном кабачке.
Интересно отметить, что судьба Норта предопределяется еще до его отъезда в Америку. Здесь также есть содержательное сходство с линией Дайвера. Тема смерти неуклонно нарастает в повествовании, что отражается в изменении его общей тональности. В сцене проводов Эйба на него смотрят не только провожающие, но и автор: «Втроем они стояли в неловком молчании, подавляемые могучей личностью Эйба, который высился перед ними, как остов потерпевшего крушение корабля — ибо, несмотря на свои слабости и привычку потворствовать им, опустошенный, озлобившийся, он все-таки оставался личностью. Нельзя было не оценить его величавого достоинства, позабыть о его свершениях, пусть неполных, беспорядочных и уже превзойденных другими. Но пугала неослабная сила его воли, потому что прежде это была воля к жизни, а теперь — воля к смерти» (II, 95). В этот момент только Дик способен верно оценить сцену. Этой способности он не утрачивает, когда и сам оказывается в конце пути: «Я как Черная Смерть, — медленно произнес он. — Я теперь приношу людям только несчастье» (II,245).
Опасность нравственного расщепления личности проявляется у Дика и Эйба с неодинаковой интенсивностью. В этом также отражается принципиальная разница между ними. «Ночь нежна» — роман главным образом о Дике Дайвере. Тема растления художника в мире торжествующего чистогана не является в данном случае основной, разрабатывается в сложном комплексе. Тем не менее сопоставление анализируемого произведения с романами Драйзера, встречающееся в критической литературе [37], представляется правомерным. Для Фицджеральда-романиста (в пору зрелости) характерен непростой хронотоп, отражающий взаимосвязь множества современных писателю социальных тенденций в скрещении с исключительно существенной связью времен. Такой хронотоп, естественно, обусловливает форму разработки всего идейного содержания произведения. Тема художника в мире капитала была поставлена еще в первом романе писателя и с тех пор не переставала интересовать его, но до книги «Ночь нежна» эта тема нигде не трактовалась им так широко и остро. Особая организация повествования, высшим достижением которой явился «Великий Гэтсби», получила во втором зрелом романе Фицджеральда дальнейшее развитие, а в результате и дополняющая основную тема раскрывается по-новому, аранжируется как вариант основной, что делает ее многозначительной.
Среди мужских характеров переднего плана фигура Барбана, современного кондотьера и, в сущности, фашиста, стоит несколько особняком. Характер Барбана раскрывается по мере развития действия. Чем больше читатель узнает о Барбане, тем яснее становится вся сложность и значение этого, казалось бы, простого образа, в котором, помимо прочего, отражена важнейшая социально-политическая тенденция романа. Мы уже видели, что Дик Дайвер отчасти напоминает Гэтсби, а Эйб Норт — Каррауэя. Несомненным представляется и сходство Томми Барбана с Томом Бьюкененом, но Барбан, при всей своей примитивности, далеко не так инфантилен, как Бьюкенен, и, конечно, много более опасен.
В самом начале знакомства Розмэри с «кружком» Дайверов она узнает, что Томми собирается уезжать, и между ними происходит следующий диалог:
«— Собрались на Родину? — На родину? У меня нет родины. Я собрался на войну...— Разве вам все равно, за что сражаться? — Абсолютно — лишь бы со мной были достаточно обходительны» (II, 37).
Томми лжет, что ему «все равно», и ложь эта скорей всего объясняется желанием произвести впечатление на молодую и красивую кинозвезду. Перед ничтожным Маккиско Барбану незачем «красоваться», и он излагает свое кредо откровеннее: «А вот я — солдат, возразил Барбан весело.— Моя профессия убивать людей. Я дрался с рифами, потому что я европеец, и я дерусь с коммунистами, потому что они хотят отнять у меня мою собственность» (II, 43). Политическая «программа» Барбана едва ли нуждается в комментариях, а вот расизм его, отчасти напоминающий взгляды Бьюкенена, получает в его словах весьма любопытное объяснение. Барбан может, конечно, считать себя европейцем, но оснований для этого явно недостаточно: как выясняется, он только наполовину француз, а наполовину американец, воспитывался же в Англии и успел к началу повествования послужить в армиях восьми стран, хотя на несколько лет моложе Дика и Эйба. Лжет Барбан, когда называет себя европейцем, или он вполне искренен, значения не имеет. Вопрос о связях, сходстве и отличиях Европы и Америки, о том, как они представлены в произведении, заслуживает специального рассмотрения, поскольку позволяет по достоинству оценить «пространственную часть» его хронотопа. Здесь же отметим следующее. В отличие от образов Дайвера и Норта, образ Барбана не связывается в книге ни с какими историческими личностями. Это было бы трудно объяснить случайностью. Барбан — единственный персонаж романа, в котором европейское «начало» как бы сливается с американским. Он предстает как уродливое социальное порождение времени, характерное и для Старого и для Нового Света. Фашизм появился в Европе, хотя, как известно, отнюдь не был чем-то чужеродным и для США, и, «европеизируя» Барбана, автор отражает реальную политическую ситуацию на Западе 30-х годов. В то же время история Барбана, с которой знакомится читатель, имеет ряд очень существенных обертонов.
Барбан попросту не «нуждается» в «историческом» обосновании, ибо является порождением той же системы, антигуманистическая сущность которой достаточно ясно раскрыта в образах Николь и других Уорренов. В этом отношении очень показательно, что Барбан совмещает свои «подвиги» с заботами об умножении собственного состояния. Он не только «солдат», но и маклер, хотя в конце концов оставляет биржу. Вся внутренняя логика этого характера как бы толкает его к Николь, и их женитьба обусловливается в книге всесторонне, представляется вполне закономерной. Конечно, состояние Барбана очень уступает капиталу Николь, но — и это в высшей степени симптоматично — брак Николь с Барбаном, в противоположность ее браку с Диком, не вызывает никаких возражений со стороны Уорренов. Уже упоминавшийся военно-промышленный «картель» явился естественным результатом развития событий. Барбан, таким образом, как бы воплощает единство системы, которая, будучи бесчеловечной по своей природе, обусловливает гибель и Дика Дайвера, и Эйба Норта.
Не совсем простой оказывается и «личностная» характеристика Барбана. Он далеко не глуп, что видно по некоторым его замечаниям, даже остроумен, но прежде всего Барбана характеризует бездуховное начало. Оно-то и делает его примитивным, лишает той глубины и разносторонности интеллекта и чувств, которые заставляют воспринимать Дика Дайвера или Эйба Норта как личности. Даже определяя «проблему» Дика, Барбан не может не допустить чудовищного упрощения. Грубая физическая сила, жестокость, «плоскость» Барбана вновь заставляет вспомнить Бьюкенена, но и здесь есть важные отличия. Примитивность реакций, бедная духовная жизнь Барбана отражаются не только в его поступках, но и в лексике, интонациях, во всей его речи. Характеристика образа обретает здесь черты всесторонней завершенности. Так, Барбан, способный, как упоминалось, на своего рода остроумие, подчас просто не может понять достаточно явной ложности своего положения и тупой ограниченности своего «нравственного» кодекса. Например, в сцене объяснения с Диком Барбан жаждет оставить за собой последнее слово, хотя это совершенно не нужно: «Прошу вас помнить, — сказал он, — что с этой минуты и впредь до окончательного урегулирования вопроса Николь находится под моей защитой. И вы мне ответите за любую попытку злоупотребить тем, что вы с ней пока живете под одним кровом» (II, 341). Едва ли можно более отчетливо выразить полное непонимание характера Дика, а заодно и собственную убогую сущность, как бы вовсе лишенную «человеческого» наполнения. «Я никогда не был охотником до любви всухую», — сказал Дик» (II, 342). Ответ Дика на тираду Барбана, очень хорошо переданный в переводе, в оригинале все же звучит много сильнее, и самая резкость его недвусмысленно подчеркивает всю глубину пропасти, отделяющей Дика от Барбана. Необходимо остановиться на еще одном его аспекте.
В отличие, например, от Маккиско или Кампиона, Барбан обладает выразительной внешностью и характером. Преследуя свои цели, он умеет долго и терпеливо ждать, он храбр. Барбан «высокого роста, крепкий, но поджарый — только налитые силой плечи и руки выглядели массивными,— он был бы, что называется, красивый мужчина, если бы постоянная кислая гримаска не портила выражение его лица, освещенного удивительно яркими карими глазами. И все-таки неистовый блеск этих глаз запоминался, а капризный рот и морщины пустой и бесплодной досады на юношеском лбу быстро стирались из памяти» (II, 24). Совершенно очевидно, что на Барбана смотрит не только Розмэри (она едва успела познакомиться с ним и не может знать, что именно и когда «сотрется из ее памяти»), но и автор. В приведенном пассаже многое выглядит весьма красноречиво. Не случайно блеск глаз Барбана запоминается, а говорится об этом не до, а после появления противительной интонации. Да и сама эта интонация имеет существенное значение. Заметным Барбана делает его сила, готовность рисковать жизнью, но ясно, что это — личность ущербная, по-своему неполноценная и тем более опасная. В такой характеристике, выдерживаемой буквально во всех эпизодах с участием Барбана, отражается социальная зоркость художника. Даже храбрость этого человека, составляющая стержень его характера, обретает под пером Фицджеральда негативную окраску, освещается иронически. В образе Барбана нашел отражение социально заостренный подход писателя к проблеме личности. Авторская оценка здесь имеет тем большее значение, что Барбан в романе, хоть и не имеет черт инфантильности и воспринимается как вполне взрослый и «определившийся» человек, в конце концов выглядит, как «случай задержанного развития». Черепная рана, полученная Барбаном в авантюре с князем Челищевым — яркий пример неоднозначности детали, — между прочим, способствует усилению и частичному обоснованию этого впечатления. Если Барбана можно считать нормальным, то, как следует из его действий и слов, эта «норма» находится где-то на грани бесчеловечности. Барбан в глазах Фицджеральда — такая же «нелюдь», как и «нормальные», здоровые Уоррены.
Среди довольно многочисленных женских характеров книги выделяется жена Дика (а потом — Барбана) Николь. Без анализа этого характера невозможно выяснить идейное содержание романа. Образ Николь не просто динамичен, но как бы динамичен вдвойне. Внешне его динамика определяется длительным и трудным процессом выздоровления героини. Внутренний смысл этого процесса сводится, с одной стороны, к восстановлению «здорового» уорреновского начала, а с другой — к закономерному разрыву с Диком и браку с Томми Барбаном.
Уход Николь от Дика к Барбану сам по себе многозначителен. Он подчеркивает органическую связь, социальное родство, если можно так сказать, Барбана и Уорренов и наглядно показывает их враждебность Дику, его несовместимость с ними. И по сюжету, и по внутреннему наполнению характер Дика оказывается как бы фундаментом для построения характера Николь. Когда зарубежные критики говорят, что Фицджеральд недостаточно обосновывает падение Дика, они недооценивают смысл противоположно направленной динамики в развитии характеров Дика и его жены. Между тем в этой динамике есть очень существенная закономерность. Только в результате психического расстройства Николь как бы утрачивает в значительной мере собственно уорреновские черты. В произведении об этом говорится совершенно прямо. Когда Барбан впервые обнимает выздоровевшую Николь, он говорит: «Я был уверен, что хорошо знаю ваше лицо, но оказывается, в нем есть кое-что, чего я не замечал прежде. С каких пор у вас появился этот невинно-жуликоватый взгляд?» (II, 321). Ответ Николь, которого, кстати сказать, Барбан не понимает (еще одна из блестящих, насыщенных смыслом фицджеральдовских деталей), звучит вполне твердо и определенно: «...если мой взгляд стал другим, так это, оттого что я выздоровела. И вместе со здоровьем восстановилась моя истинная природа. Мой дедушка был жуликом, и у меня это наследственное, вот и все» (II, 321 — 322). Этот диалог происходит в конце романа и подводит некоторые важные итоги, но на всем протяжении действия незаметно идет процесс в направлении именно к такому результату, и процесс этот затрагивает судьбу не одной только героини.
Чем больше Николь зависит от Дика (другими словами, чем серьезнее она больна и чем дальше ее выздоровление), тем меньше проявляется в ее характере собственно уорреновское, связанное с чикагскими миллионами, зато тем больше в ней, условно говоря, дайверовского, то есть человечного и в основе своей нравственного. По мере выздоровления, а значит — уменьшения зависимости от мужа, специфические уорреновские черты Николь проявляются все очевиднее, пока, наконец, почти совершенно не вытесняют, не заглушают «дайверовскос». Через образ Николь раскрывается остро критическое отношение автора к миру богатых, ко всему бесчеловечному социальному устройству. Борьба за психическое здоровье Николь предстает как борьба за превращение ее в полноценную личность; и то, что победа Дика оборачивается полным поражением для него и, с точки зрения гуманизма и нормальной этики,— для Николь, само по себе свидетельствует о ненормальности мира выздоровевшей и утратившей живую душу женщины.
Отмеченная зависимость имеет еще несколько существенных особенностей. Параллельно с процессом выздоровления Николь и изменением ее отношения к уорреновским деньгам в ее характере и поведении все меньше сказывается духовное начало, уступая грубой бездуховности, связанной с жаждой обладания и мещанским стремлением быть «не хуже других». Это становится особенно заметным при сопоставлении эпизодов, рисующих отношения Николь с Диком (очень показательна именно начальная стадия) и Барбаном. Разница обнаруживается каждой деталью лексики, тропами, собственно действием. Даже небольшая и, на первый взгляд, чисто фоновая сцена (например, эпизод с девушками, врывающимися в номер Николь и Барбана, чтобы с балкона попрощаться со «своими» уплывающими матросами), не теряя реальности, служит также целям характеристики новой Николь. Если в начале повествования Николь и Дик кажутся чуть ли не идеальной парой, то в конце Николь и Барбан выглядят буквально «созданными друг для друга».
Внутреннее наполнение динамики характера Николь имеет социальный смысл. Прежде всего здесь необходимо выделить собственно мотив денег. В начале отношений Николь и Дика деньги почти не упоминаются, хотя наличие у Николь огромного богатства все время молчаливо подразумевается. В это время деньги еще не проявляют себя как активная сила, но из действия видно, что и забывать о них не приходится. Так, когда Николь, влюбленная в Дика, думает, что теряет его, в сознании ее возникает мысль о деньгах: «На миг ей пришла в голову отчаянная мысль: сказать ему, как она богата, в каких великолепных домах всегда жила, объяснить, что она — капитал, и немалый; на миг в нее вселился покойный дед, барышник Сид Уоррен. Но она поборола искушение» (II, 160). С развитием действия, по мере сближения с Диком, значение денег для Николь сначала уменьшается («Мы целых два года будем жить в Цюрихе, тихо и скромно, и у Дика денег хватит... мне если что понадобится, так только на материал и портних... Что-о, да куда мне столько, я этого и не истрачу никогда»; II, 177), но затем все более растет.
Нет нужды останавливаться на каждом характерном эпизоде. Отметим лишь, что в XII главе первой книги образ Николь уже прямо связывается с деньгами, выступающими в качестве основной социальной доминанты. Оказавшись в Париже, Николь затевает настоящую оргию покупок: «Николь делала покупки по списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупала все, приглянувшееся ей в витринах. То, что не могло сгодиться ей самой, она покупала в подарок друзьям» (II, 64). В этом не было бы ничего особенного, если бы количеству покупок Николь не соответствовала в высшей степени выразительная манера, с которой Николь тратит деньги. Используя различные художественные средства, автор показывает, что заработанные деньги тратят не так, и точно определяет разницу между тратами Николь и покупками тех, кто вынужден зарабатывать на жизнь. Описание массовых закупок Николь, пошлого торжества незаработанных, как бы обладающих надчеловеческой силой денег готовит вывод, свидетельствующий о резком заострении социальной тенденции в зрелом творчестве Фицджеральда-романиста. В этом отношении образ Николь — едва ли не самый показательный и яркий в романе.
Вспомним, как Гэтсби воспринимал Дэзи в начале их отношений: «С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много — а под ней была Дэзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая — бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков» (I, 409). При всей красочности и художественной насыщенности приведенного пассажа, в нем явственно звучит несколько абстрактная нота, чувствующаяся и в оригинальном тексте (в оригинале сказано не просто «далекая от», но и стоящая «над» («above») «борьбой бедняков»). Достаточно сравнить приведенный отрывок из «Гэтсби» с авторским анализом социального положения Николь, чтобы увидеть, как события конца 20-х — начала 30-х годов отразились в разработке интересующей Фицджеральда темы: «Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки и все быстрей двигались трансмиссии у станков; рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими,— все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель» (II, 65).
Нельзя не отметить здесь существенную конкретизацию, которая настойчиво подчеркивается автором, как бы раскрывающим смысл фразы «изнурительная борьба бедняков». Подробное перечисление многих профессий и трудовых действий естественно создает представление о системе. Элементы социального анализа как бы выступают «на поверхность» в самой лексике и тропах, а в результате весь замечательный пассаж обретает двойное — художественное и публицистическое — качество. Немаловажно и расширение пространства, также связанное с образом Николь. Здесь, между прочим, тонко намечается аналогия между пространственной протяженностью системы, обеспечивающей существование Николь, и пространственным размахом «деятельности» Барбана — сторожевого пса той же системы.
Другие Уоррены, отец Николь и се сестра,— персонажи эпизодические, но образы их полифункциональны и весьма содержательны. О Девре Уоррене едва ли нужно говорить подробно, так как он совершенно ясен. Отметим лишь его явную психическую неустойчивость или даже болезненность, проявляющуюся не только в акте инцеста, но во всем его поведении, поскольку оно касается Николь. Эта черта миллионера и отличает его в основном от упоминающегося в повествовании жуликоватого деда Николь, но вовсе не сказывается на специфической психологии и образе мышления очень богатого человека. Проявления подобной психологии, а также некоторой психопатологии или по меньшей мере отступления от нормы характеризуют и Бэби Уоррен, характер которой раскрыт в романе значительно подробнее.
Бэби органически не в состоянии подходить к чему бы то ни было иначе, чем с «позиции» больших денег. Наличие капитала, ставящего ее в исключительное положение, выступает в качестве той силы, которая полностью обусловливает ее характер, определяя и некоторую ее личностную ущербность, и поразительную глухоту ко всему, кроме звона денег. «Естественно» эгоистичная до мозга костей, Бэби, по справедливому выражению М. О. Мендельсона, — «самая отвратительная из Уорренов» [38]. Объясняется это тем, что она представляет собой как бы чистое проявление уорреновского начала. В отличие от Николь она не попадает в сферу влияния Дика. «Здоровое» уорреновское начало вообще исключает такую возможность. В отличие от своего отца она не страдает угрызениями совести (заметим, кстати, что у Девре это тоже проявляется достаточно уродливо). Бэби предстает в произведении как воплощение торжествующего богатства во всей его бесчеловечности, но этот фактор оказывается небезразличным для нее самой. Присущая ей система мышления проявляется в ее лексике, манерах и действиях с неумолимой последовательностью. Если человек не принадлежит к родовой или финансовой аристократии, он для нее в своем человеческом качестве просто не существует, воспринимается ею только как предмет, который, если необходимо, просто покупается. Иначе она мыслить не может. Это определяет отчасти ее душевную ущербность.
Очень показательно, что деньги дают Бэби непоколебимое сознание собственной непогрешимости. Обсуждая с Диком его предстоящую женитьбу на Николь, Бэби ведет разговор в таких тонах, что Дик едва не отказывается от своего предложения. Хотя, как выясняется, Бэби удивительно невежественна, она не ведает сомнений, и автор дает этому точное объяснение: «Уоррены были по меньшей мере герцогами — только без титула. Фамилия Уоррен, занесенная в книгу для приезжающих, поставленная под рекомендательным письмом, упомянутая в затруднительных обстоятельствах, в одно мгновенье преображала людей — психологический феномен, который, в свою очередь, воздействовал на Бэби, приучая ее сознавать свое высокое положение. Факты она знала от англичан, у которых на этот счет имелся более чем двухсотлетний опыт» (II, 177). Бэби так и не поняла, что Дик любил Николь. Когда, в конце романа, Николь говорит о том, что Дик для нее сделал, Бэби отвечает: «Для этого он и учился» (II, 343). Вообще, по-видимому, ни собственно чувство любви, ни понимание его Бэби недоступны.
Ущербность Бэби проявляется не только в ее специфической душевной черствости и узости. Не случайно Дик настойчиво расспрашивает ее о причинах ее одиночества. Этот эпизод важен, и то, что Дик — психиатр, здесь чрезвычайно существенно. Неожиданно оказывается, что Бэби может проявить и уклончивость, и смущение, но объяснить, почему же она не вышла замуж, она не может. Она только уверена, что и так «не упускает главного» в жизни, но ошибочность ее мнения наглядно выявляется все в той же эмоциональной и психологической ущербности. Бэби, при всей ее самоуверенности,— попросту уродливое порождение порочных социальных условий, бесплодное и почти бесполое.
Брак Николь с Барбаном и сближение ее с Бэби предстают как следствие «выздоровления» Николь, которое, оказывается, страшнее болезни. Так находит закономерное завершение развитие темы красоты, связанной с богатством. Красота Николь как бы утрачивает свое качество, что подчеркивается многими деталями, совершенно отсутствующими в начале повествования, а Бэби и вовсе ни в каком отношении красотой не отличается. Фицджеральд окончательно «отделяет» красоту от богатства, показывает, что, как гений и злодейство, это «вещи несовместные», более того, враждебные. Даже в «Гэтсби» эта тема не разрабатывалась так углубленно и остро.
Образы Девре и Бэби, конечно, помогают автору точно обрисовать характер Николь и показать закономерность той формы активности, в которой сказывается ее «выздоровление». В сущности не только Николь, но все Уоррены, хоть это им и в голову не приходит, представляют собой любопытный объект для психиатра. В романе возникает лейтмотив, затрагивающий и некоторые другие эпизодические образы: мир большого богатства предстает как больной, ненормальный мир. Социальное и собственно патологическое выступают в симптоматичной внутренней связи и взаимозависимости. Характеры Уорренов — свидетельство успешной попытки автора не просто постулировать, но аналитически показать социальное зло в его основах и реальном воплощении.
Есть еще один заслуживающий внимания момент, связанный в первую очередь с представителями семьи Уорренов. Заметно, что во время работы над романом Фицджеральд внимательно читал Золя. М. Бракколи отмечает, между прочим, что отголоски языка Золя, а также характерной «организации» очевидны в анализируемом произведении [39]. Справедливое утверждение критика нуждается, нам кажется, в некотором уточнении. Эстетика натурализма остается принципиально чуждой Фицджеральду. По-своему переработав некоторые элементы манеры Золя, автор «Ночи» не принимает его биологическую концепцию и основывает свой анализ на социально-исторических факторах. Не только язык, но и вся художественная структура романа, на наш взгляд, свидетельствуют об этом с такой непреложной ясностью, что едва ли нужно вдаваться в подробности затронутого вопроса.
Особое место в книге занимает Розмэри Хойт. Собственно содержательное значение динамики ее характера немаловажно, а черты, придающие ему определенную сложность, не должны, по-видимому, остаться незамеченными.
Розмэри приезжает на Ривьеру, потому что болела воспалением легких: на съемках фильма ей пришлось несколько раз прыгать в холодную воду, хотя она уже была больна гриппом. Фильм имел успех, и молодая актриса получила возможность поправить здоровье на французском курорте. В начале повествования мир богатства для нее только открывается, и она, разумеется, не может разглядеть под блестящей оболочкой его истинную сущность. Розмэри появляется в романе как воплощение здоровой, прекрасной и наивной юности, резко контрастирующей с атмосферой фешенебельного курорта. Именно поэтому Дик, познакомившись с девушкой, говорит ей: «А вы и в самом деле похожи на нечто в цвету — давно уже я таких не встречал» (II, 28).
Наивная юность, талант, ощущение, что все впереди, отнюдь не исчерпывают этот характер. Розмэри отличается от представителей «кружка» Дайверов, но ближе к ним, чем к другим американцам, проводящим время на Ривьере. В сущности она не принадлежит еще к тому миру, в который попадает. Па одной и той же странице читаем: «Розмэри с детства была приучена к мысли о труде» (II, 48). Это говорит автор, а несколькими строчками ниже миссис Спирс, мать девушки, «без слов» подтверждает: «Тебя готовили не к замужеству — тебя готовили прежде всего к труду». Это определяет отличие покупок, которые делает в Париже Розмэри, от оптовых закупок Николь: Розмэри, как подчеркивает автор, тратит заработанные деньги. И чувство Дика к Розмэри также обусловлено не только ее молодостью, свежестью, красотой, наконец, уступающей, впрочем, по крайней мере в его глазах, красоте Николь, а тем, что Розмэри иная, из другой жизни, той, в которой труд не является чем-то немыслимым, а езда на велосипеде — неприличием.
Любовь Розмэри к Дику столь же естественна, сколь закономерно обречена, но выясняется, что и несомненное дарование актрисы тоже не имеет большого будущего. Так возникает мотив, связывающий образ Розмэри с образом Эйба Норта. При всей разнице судеб этих людей, есть в них кое-что сходное. Розмэри, конечно, ничего не знает о мировой войне, а любовь девушки к Дику нельзя сопоставить с любовью Норта к Николь, но миссис Спирс, очень трезвая, практичная и деловая американка, воспитывала дочь в определенных деловых принципах, стремилась подготовить ее к самостоятельности и независимости, что находило выражение прежде всего в материальном успехе. И сама Розмэри, впитавшая уроки матери, проявляет своего рода конформизм, а это приводит к тому, что в конце концов она обретает черты заурядной кинозвезды.
Автор не случайно рассказывает о нервом фильме Розмэри в неприкрыто саркастическом тоне. Кажется, в истории девушки нет никакой трагедии, но когда в конце романа она вновь участвует в действии, заметна печальная нивелировка, «усреднение» не только ее дарования, но и тех личностных качеств, которые делали ее столь привлекательной в начале повествования. Розмэри явно обуржуазилась (бунтарю Норту это не было дано, и он должен был погибнуть), и в заключительных эпизодах произведения ее отличие от курортной публики уже не кажется радикальным. Подобно тому, как это случилось с Диком, в ее жизни появляется мотив сослагательного наклонения. Все могло бы быть иначе, если бы... Но деловое воспитание миссис Спирс, а также голливудские уроки уже наложили свой отпечаток на девушку, и тема ее разочарования звучит как бы приглушенно, обещая не трагедию, а примирение с реальностью, мало похожей на то, что могло бы быть.
Заметно, что содержательное «наполнение» образов действующих лиц определяется сравнительно просто. Иначе обстоит дело с «представлением» их в романе. Здесь приходится рассматривать не только немаловажные частные элементы художественной структуры, но и композицию в целом, в анализ которой в данном случае необходимо включить вопрос о повествовательной перспективе.
Композиционная сложность романа обусловлена обдуманным нарушением хронологии действия. Произведение начинается рассказом о приезде Розмэри на Ривьеру в июне 1925 г. События этого лета и составляют содержание первой книги, лишь в самом конце которой выясняется, что Николь больна. Только во второй книге писатель возвращает нас к истокам действия — весне 1917 г. — и, последовательно доведя повествование до того момента, которым заканчивается первая книга, продолжает дальше, до эпизода, показывающего, как Уоррены приобретают моральное превосходство над Диком. Этим заканчивается вторая книга, а третья, последняя, является как бы эпилоговой, позволяет писателю завершить расстановку необходимых акцентов. Таким образом, только в середине романа тайна семьи Дайверов становится известной читателю.
Разумеется, такая особенность композиции важна прежде всего для «представления» образа главного героя. Смысл нарушения хронологии состоит в том, чтобы дать читателю ощутить все те дни, недели, месяцы и годы, в течение которых Дик боролся за сохранение своей личности, еще не замечая поражений. Иллюзии героя и их утрата обосновываются и прямо или косвенно декларируются только во второй и третьей книгах романа. В первой книге Дик предстает в ореоле мужественной молодости, здоровья, обаяния, он еще сохраняет черты личности, которые ставят под сомнение неизбежность его поражения, и только изредка появляются намеки на то, что же скрывается за блестящей внешностью, столь привлекательной для неискушенной Розмэри. Внутреннее напряжение действия как раз и обусловлено напряженностью борьбы Дика, неясностью (по крайней мере для Розмэри) ее исхода. Отсюда, заметим кстати, необходимость и оправданность «точки зрения» Розмэри в первой книге «Ночи».
Эта часть романа имеет большой объем, действие в ней замедлено. Так создается ощущение длительности того периода, когда положение остается неясным. Кроме того, исключительно важно, что читатель знакомится не со способным и наивным юнцом, а со зрелым и красивым человеком, обаятельной личностью. Когда выясняется (очень не скоро, и это один из тревожащих моментов), что Дик еще и врач, читатель готов солидаризироваться с героем и, встревоженный неприятными обертонами, внутренне принимает его сторону. Только с XI главы второй книги возобновляется действие, прерванное окончанием первой. Продолжение рассказа занимает значительно меньший объем, что как бы соответствует ускорению деградации Дика. Нарастание темпа действия подчеркивается специфическими художественными средствами, среди которых особенно важен монтаж (глава X). Дальнейшее «ускорение» заметно и в третьей книге, где Дик несколько раз исчезает из поля зрения читателя. Композиция, таким образом, как бы придает импульс развитию сюжета, и очень важно, что в первой книге герой «видится» преимущественно глазами Розмэри.
С окончанием первой книги Розмэри действительно слишком надолго исчезает из сюжета. Структурное несовершенство «Ночи» определяется в конечном счете тем, что сюжетная линия Розмэри не имеет того значения, которое имела в «Гэтсби» линия Ника. «Ночь нежна», как упоминалось, — роман с одним основным героем, а «угол зрения» Розмэри, доминируя во всей первой книге, неоправданно заставляет читателя придать ее образу слишком большое значение. Все же попытку «выпрямить» композицию следует, нам кажется, признать принципиально неоправданной.
Это подтверждается и при рассмотрении повествовательной перспективы. Здесь вновь обнаруживается модификация формы, занимающей промежуточное место между собственно объективным повествованием и рассказом от первого лица. Широта и многообразие тематики романа, ее социальная заостренность, всепроникающая конкретизация, протяженность действия, масштабность фона, преобладание интереса к настоящему, но с учетом исторического фундамента — все это обусловило невозможность «перепоручить» повествование какому-нибудь действующему лицу. Те же причины препятствовали автору «пропустить» действие через несколько сознаний, как сделал, например, Фолкнер в романе «Шум и ярость» (1929). Неудовлетворительной оказалась бы и позиция «всеведущего автора»: соответствующий художественный анализ всей проблематики «Ночи» потребовал бы нескольких произведений и «снял» бы напряженность действия. Писатель находит форму, отвечающую его стремлению к синтезу, который, не исключая анализа, дает возможность сжать повествование. Все стилистические детали произведения соответствуют этой форме, и необходимо отметить сразу же, что она позволяет «опереться» на сцены (эпизоды), имеющие не только конкретный, частный, но и обобщающий смысл.
Найденная Фицджеральдом повествовательная перспектива состоит в гибком сочетании точки зрения персонажа (не все время одного и того же) и автора, «всеведение» которого, таким образом, ограничивается, вводится в необходимые рамки, но рамки эти могут то расширяться, то сужаться, и авторская точка зрения может, если требуется, становиться преобладающей. «Двойной» взгляд позволяет смотреть вместе с героем и в то же время смотреть на этого героя. Так, в первой книге автор смотрит вместе с Розмэри, но одновременно смотрит на нее. Это допускает определенную коррекцию се взгляда, а кроме того, объективирует попадающее в поле зрения, придает объемность событиям и действующим лицам. К тому же оправдывается, становится естественным необходимый для синтеза отбор, а в конечном счете получаст обоснование хронотоп романа. С повествовательной перспективой связано существенное изменение атмосферы произведения, соответствующее все большему прояснению судьбы Дика Дайвера.
Поясним сказанное примером. В эпизоде, рассказывающем, как Николь и Розмэри вместе ходят по магазинам, тема разного отношения к деньгам, определяющим общественное положение, звучит все громче: «Розмэри тратила деньги, заработанные трудом, — в Европе она сейчас находилась потому, что в одно январское утро больная, с температурой, раз за разом прыгала в воду, пока мать не вмешалась и не увезла се домой» (II, 64). Если это не несобственно-прямая речь, то лишь потому, что Розмэри в отличие от автора не может понимать и формулировать подобные идеи столь отчетливо. Интересны несколько строк, непосредственно следующие за только что приведенными: «С помощью Николь Розмэри купила на свои деньги два платья, две шляпы и четыре пары туфель». О покупках Розмэри рассказывает автор, «видящий» происходящее со стороны. За действиями Николь, скупившей такую массу вещей, что перечисление их занимает десять строк, автор «наблюдает» вместе с Розмэри, и самостоятельность «взгляда» автора проявляется, во-первых, в использовании лобового контрастного сопоставления, а во-вторых, в заключающем перечень покупок пояснении, на которое Розмэри едва ли способна.
Раскрытие основных характеров в романе связано, как видим, с его композицией и повествовательной перспективой, но есть и другие важнейшие моменты, относящиеся одновременно к «представлению» образов героев и организации повествования в целом. Наиболее интересно в этом плане раскрытие характера в действии, связанное с архитектоникой произведения и дополняющееся сложной системой сопоставлений, которые, в свою очередь, ведут к появлению многозначительных лейтмотивов. Все это внутренне взаимосвязано и взаимозависимо. Так в значительной мере обусловливается удивительное идейно-художественное единство книги.
Принцип «действие есть характер» нашел во втором зрелом романе Фицджеральда дальнейшее развитие. В «Гэтсби» многое имплицировалось или постулировалось, давалось в обобщенном или как бы свернутом виде. Отличительной чертой книги «Ночь нежна» является многозначительная конкретизация, которая, между прочим, находит выражение в том, что даже маловажная, казалось бы, деталь характеристики непременно последовательно раскрывается не только в описании внешности и манере речи, но и в непосредственном действии, во всем поведении персонажа. Это единство внешности, речи и действия придаст характеру особую жизненность, ту убедительность, «зримость», которая чрезвычайно важна для художественного качества произведения и в которой, заметим кстати, проявилось принятое и разделяемое Фицджеральдом конрадовское стремление прежде всего «заставить читателя увидеть». Например, читатель имеет возможность «увидеть» мастерство Эйба Порта в плавании, манеру двигаться, говорить. Сначала Эйб кажется вполне «здоровой» личностью. Его решительность и авторитет, проявившиеся в истории с дуэлью, легко одолевают нелепую воинственность Барбана. Когда же Эйб предупреждает, что Дайверы не должны узнать о происшедшем, портрет его как бы получает завершающие штрихи. Но вот выясняется, что именно Эйб и рассказал всю историю Дику. Роз-мэрн выражает удивление по этому поводу, и Дик, смеясь, объясняет ей, что словам алкоголика доверять нельзя. На первый взгляд, вопрос кажется ясным, но характер должен быть «показан» объемно. Читатель «видел» трезвого Норта, но только «слышал» о Норте пьяном. Если бы все так и осталось, художественная обрисовка личности Эйба была бы несколько односторонней. Этого не происходит лишь потому, что автор знакомит читателя с теми действиями напившегося Норта, которые приводят к трагической гибели случайного человека. В этом-то и заключается смысл подробнейшего сообщения - «показа» действий Норта в баре. Кроме того, эти «живые» сцены дают возможность избежать тех подробностей в рассказе о смерти Норта, которые были бы слишком неприятны.
Дик Дайвер подобно Эйбу Норту сначала предстает перед Розмэри (и читателем) во всем своем обаянии. Нет ничего удивительного, что девушка влюбляется в него с первого взгляда, но ведь и она, и читатель «видят» в начальных эпизодах романа только «маленькие» действия героя. Правда, он проявляет большой такт, светскость, ум, предусмотрительность, но в серьезном действии никак не «показывается». Когда он предупреждает Розмэри, что на слова пьющих нельзя полагаться, его отличие от Норта только постулируется, но в эпизоде со спасением Розмэри от скандала, который грозит погубить ее карьеру, Дик «показан» в непосредственном действии, серьезном и даже рискованном. Здесь «зримо» проявляется его отличие от спившегося друга. Заметим, кстати, что отражение существенного сходства и различия Дика и Эйба в непосредственном действии несколько сложнее, чем может показаться. В истории с дуэлью Эйб действует не менее решительно и уверенно, чем Дик, когда он убирает труп из номера Розмэри. Определенная лейтмотивная связь представляется в данном случае вполне очевидной, но невозможно пренебречь различием самих событий, нужно помнить, что дуэль превратилась в фарс. Как видим, не только характеры в романе раскрываются в действии, но и сами действия как бы точно соответствуют характерам.
Сказанное справедливо относительно всех сколько-нибудь значительных персонажей, а также почти всех эпизодических. Так, когда Бэби узнает об аресте и избиении Дика, она бросается на выручку со всей страстью «финансовой герцогини» и собственницы. Читатель уже успел составить представление о Бэби, но еще не видел, как она действует в серьезных обстоятельствах. Эпизод, повествующий о том, как Бэби Уоррен выручила из беды Дика Дайвера, исключительно важен и интересен, между прочим, и потому, что дает возможность «показать» работу се сознания, охарактеризовать ее побуждения, раскрыть всю глубину воплощенной в ней бесчеловечности, той моральной ущербности, которая так типична для семьи Уорренов. Отметим еще один важный момент, связанный с раскрытием характера в действии.
Архитектоника «Ночи» заметно отличается от архитектоники «Гэтсби», и отличие это в немалой мере обусловлено только что рассмотренной особенностью показа образа. Так, третья глава «Гэтсби» заканчивается, как упоминалось, отступлением, занимающим три с половиной страницы. Оно понадобилось, чтобы рассеять возможно возникшее у читателя представление, будто описанные в первых трех главах события непосредственно следовали одно за другим. Кроме того, отступление обобщенной форме сообщает необходимые сведения о повседневной жизни рассказчика и, вследствие своего лирического характера, создает необходимую эмоциональную атмосферу. В анализируемом романе подобных отступлений нет и быть не может. Действие как бы говорит само за себя. Любое общее положение неизменно подтверждается в конкретных событиях. Отсюда и особые качества всегда кратких «пояснений», вроде приводившегося художественно-публицистического пассажа, характеризующего Николь как часть сложной социальной системы. При чтении романа «Ночь нежна» у читателя не может возникнуть впечатления, что события, «на самом деле» отделенные одно от другого неделями, следуют подряд, без какого бы то ни было временного промежутка. В тех редких случаях, когда конкретную дату события установить трудно, оказывается, что это не нужно, поскольку, как, например, в монтаже (глава Х, книга вторая), важен не каждый данный момент, отраженная последовательность событий, занимающих довольно большой период времени, причем «реальная» протяженность этого отрезка времени устанавливается без всякого труда.
С той же особенностью «представления» образа связана ясность и отчетливость функций отступлений в прошлое. В основном они дополняют условное настоящее там, где требуются пояснения, идет ли речь об отдельных людях или сложных проблемах В очень важных случаях обращение к прошлому оказывается полифункциональным. Так, в первой книге «Ночи» прошлое чаше всего появляется в кратких «справках» о некоторых персонажах, действующих в условном настоящем. Эти пояснения необходимы, чтобы читатель понимал «происходящее», но одновременно автор иногда создает насыщенное смыслом сопоставление. Когда, например, речь заходит о прошлом Розмэри и Николь, уровень «технической справки» оказывается не самой значительной составной многослойной идейно-художественной структуры. Во второй книге прошлое по большей части утрачивает «личностный» характер, но сохраняет полифункциональность, а в третьей автор к нему вообще не обращается, так как решение основной коллизии уже принципиально определилось.
Система сопоставлений, откровенно контрастных и более сложных, пронизывает весь роман, выступает в качестве важнейшего средства «представления» образов действующих лиц. Когда, например, Дик узнает о гибели Норта, его эмоциональная реакция резко и наглядно контрастирует с душевным состоянием Барбана, чем подчеркивается внутреннее различие, «несовместимость» этих людей. В эпизоде, рассказывающем о поездке Розмэри и Николь в такси, есть интересный момент: «На Rue de Saints Peres Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:
— Вот здесь мы жили.
— Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.
Два серых фасада глазели на них с двух сторон — тусклые отголоски детства.
— У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест и нужно было экономить,— продолжала Николь. — То есть экономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.
— Нам тоже нужно было экономить,— сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков» (II, 78).
Здесь противопоставление подчеркивается даже тем, что дома, в которых жили Розмэри и Николь, стоят не рядом, а напротив друг друга. Хотя они и похожи, но жили в них по-разному, разной была экономия, разными были и причины, заставившие Розмэри и Николь поселиться в этих домах. Об отношении миссис Спирс к дочери читатель узнал еще раньше. Поведение миссис Уоррен, о котором Николь очень естественно и кстати рассказывает непосредственно вслед за приведенным диалогом, так же отличается от поведения матери Розмэри, как и «экономия» Уорренов от действительной экономии, обусловленной скудостью средств. Впрочем, есть здесь и очень тонкие обертоны, как бы противостоящие контрасту, что также необходимо учитывать. Сопоставление Розмэри и Николь в целом расширяется и уточняется, окрашивается этическими мотивами (лицемерие Уорренов), обретает социальное наполнение.
Намеченное в случае с домами пространственное противопоставление отнюдь не случайно. Фицджеральд тонко использует такой прием в нескольких важных эпизодах. Так, когда Розмэри только появляется на пляже Госса, она (потому, что никого не знает), оказывается между двумя группами людей. При всей естественности такое положение подчеркивает почти немедленно раскрывающуюся разницу между кружком Дайверов, с одной стороны, и группой Маккиско, Кампиона и прочих — с другой. Внутреннее, содержательное различие обеих групп проявляется во множестве деталей, но главным образом — в восприятии чисто внешних черточек, подмечаемых Розмэри, и, что много более важно, в отношении обоих кружков к ней самой. «Промежуточное» положение Розмэри получает «видимый» пространственный аналог, а ее перемещение на пляже как бы моделирует развитие ее сюжетной линии.
Проблема сопоставлений уже затрагивалась при рассмотрении образов действующих лиц. Поэтому приведенными примерами можно, вероятно, ограничиться. Остается лишь добавить, что сопоставление характеров с учетом массы индивидуальных черточек, но на прочном этико-социальном фундаменте дает представление об иерархии образов. Роман оказывается насыщенным многозначительными лейтмотивами, и даже наиболее частные из них весьма содержательны. Применяемые Фицджеральдом средства «представления» образов, взятые в совокупности, помогают, не жертвуя мельчайшими деталями, соотнести один характер с другим, включить его в определенную социальную группу. Различные персонажи либо непосредственно принадлежат, либо тяготеют к одной из этих групп, а множественные лейтмотивные связи, являющиеся результатом строжайшего отбора, незаметно «крепят» структуру романа, способствуют созданию единой и целостной картины, в которой появление любого действующего лица, пусть самого незначительного, пусть на одно мгновение, представляется закономерным.
Проблема пространства, которой пришлось коснуться в связи с «представлением» действующих лиц, оказывается очень важной во многих отношениях, поскольку социальная проблематика произведения находит существенное отражение в его хронотопе. Сопоставление в этом плане «Ночи» с «Великим Гэтсби» помогает выявить новые особенности частных и общих случаев использования пространства как содержательно-художественного средства.
Нетрудно заметить, что в этом отношении в обеих книгах есть черты сходства и отличия, причем те и другие обусловливаются в какой-то мере «техническими» моментами, но в значительно большей — содержательно-тематическими. Использование пространства в «Гэтсби» нередко находит в следующем романе почти полную аналогию. Так, впервые посетив Гэтсби, Ник отмечает: «Меня сразу поразило большое число молодых англичан, вкрапленных в толпу; все они были безукоризненно одеты, у всех был немножко голодный вид, и все сосредоточенно и негромко убеждали в чем-то солидных, излучающих благополучие американцев. Я тут же решил, что они что-то продают — ценные бумаги, или страховые полисы, или автомобили. Как видно, близость больших и легких денег болезненно дразнила их аппетит, создавая уверенность, что стоит сказать нужное слово нужным тоном, и эти деньги уже у них в кармане» (I, 320). Когда Франц предлагает Дику купить клинику, Бэби проявляет острый интерес к разговору: «Бэби уже просто сгорала от любопытства, Дик решил сжалиться над ней. „Скажите, Бэби, — обратился он к ней,— ведь верно, если европейцу срочно понадобится американец, можно ручаться, что речь пойдет о деньгах?"» (II, 196). В обоих случаях большое пространство, как видно, включает и Европу, и Америку. В обоих случаях американцы выступают в качестве носителей богатства, воплощения материального благополучия, а европейцы, при всей безукоризненности их внешнего вида, производят впечатление «немножко голодных» искателен счастья. В «Гэтсби» это подмечает рассказчик, в анализируемом романе — главный герой. Тема отличия Америки от Европы связывается, естественно, с войной, то есть совсем близким прошлым, имеющим прямое и непосредственное отношение к условному настоящему. В то же время в обоих романах сопоставление Европы и Америки имеет глубинный исторический аспект, раскрывающийся в характеристике Гэтсби и Дика, о чем уже говорилось.
Даже в рассмотренном частном примере проявляется основное отличие в разработке темы. Ник Каррауэй сообщает только о своем впечатлении, причем в самой общей форме, и вся описываемая им сцена исключает в этом плане самую возможность конкретизации. Иначе обстоит дело в романе «Ночь нежна». Здесь все совершенно конкретно. Место безымянных англичан занимает достаточно знакомый читателю Франц, а место неназванных американцев — сам Дик и, конечно, Бэби Уоррен. Да и речь идет не о торговых сделках с «чем-то», а о покупке совершенно конкретной клиники. Заметим сразу, что показательная конкретизация, уже упоминавшаяся по другим поводам, неизменно прослеживается при разработке пространственной темы в книге «Ночь нежна». Как и в других случаях, эта конкретизация не только отражает движение времени и заострение социальной критики. Она сама по себе является отличительной чертой иной по сравнению с «Гэтсби» художественной модели.
В «Гэтсби», как упоминалось, очень многое постулируется или представляется в обобщенно-поэтической форме. В романе «Ночь нежна» обобщения тоже, конечно, имеют место, но в основном то, что обрисовывалось в «Гэтсби» как бы в свернутом виде, здесь уже раскрывается в конкретных ситуациях и развернутых эпизодах, дающих тот четко определенный материал, который служит основой обобщения, причем «всеведущий» автор очень часто предоставляет читателю самому делать неизбежные выводы. Рассмотренная «плотность» Гэтсби обусловливает особенное значение каждого упоминания Европы, и легко заметить, что таких случаев в книге не так уж много. В романе «Ночь нежна» «перекличка» Европы и Америки слышится значительно чаще, но оказывается столь же естественной, так как действие в основном перенесено в Европу, а главными действующими лицами являются американцы. Сказанное полностью относится ко всем эпизодам «Ночи», в которых тема пространственных отношений выступает «на поверхность». Когда Кэтрин, сестра Миртл, ругает Европу, упоминание Марселя и Монте-Карло («Господи, до чего ж я возненавидела этот город!») «включает» ассоциативное мышление Ника: «На миг предвечернее небо в окне засинело медвяной лазурью Средиземного моря — но пронзительный голос миссис Мак-Ки тут же возвратил меня в тесную гостиную» (I, 314). Вспомним, что Ник воевал в Европе отнюдь не в игорных домах, где так ловко «обчистили» Кэтрин, и в разнице отношения к Европе этих двух персонажей наглядно и без пояснений выявляется их внутреннее различие и даже «несовместимость». Более того, здесь косвенно подчеркивается коренное отличие Ника от Тома. В гостиной Миртл собрались три пары. Кэтрин была специально приглашена, чтобы Ник не чувствовал себя одиноким на вечеринке. Супруги Мак-Ки действительно представляют собой пару. В определенном смысле то же можно сказать о Томе и Миртл, и только Ник не может даже на несколько часов «составить пару» Кэтрин, что и подчеркивается как будто случайным в данной ситуации появлением темы Европы.
Нечто подобное можно найти и в романе «Ночь нежна». Например, когда — при первой же встрече — миссис Маккиско поучает Розмэри, как можно «интересно провести время во Франции» (II, 15), существенное различие обоих кружков на пляже Госса становится очевидным и без пояснений, причем сохраняются и другие необходимые обертоны: самохарактеристика миссис Маккиско, психологическое неприятие Розмэри группы Маккиско. Так незаметно намечается участие пространственного момента в создании определенной, пока что частной социальной характеристики.
В романе есть и многозначное использование пространства — в первую очередь с целью насыщенного смыслом обобщения. Подобные обобщения различны по характеру и содержанию. Два эпизода, далеко отстоящие один от другого, образуют в произведении важнейший лейтмотив. Когда Дик говорит Францу, что собирается стать не просто психиатром, а «лучшим из лучших», следует показательный ответ: «Очень мило — вполне по-американски,— сказал он.— У нас это все не так просто.— Он встал и подошел к балконной двери.— Когда я стою здесь, мне виден Цюрих. Вон колокольня Гросмюнстера, там похоронен мой родной дед. Чуть дальше, за мостом, могила моего предка Лафатера, который не хотел, чтобы его хоронили в церкви. Рядом статуя другого предка, Генриха Песталоцци, и памятник доктору Альфреду Эшеру. А на все это с высоты взирает Цвингли. Целый пантеон героев всегда перед глазами» (II, 147).
Второй эпизод рассказывает о похоронах отца Дика: «На следующий день тело отца опустили в могилу среди сотен Дайверов, Хантеров и Дорси. Было утешительно, что он останется тут не один, а в кругу своей многочисленной родни. Насыпали невысокий холмик и по бурой рыхлой земле разбросали цветы. Ничто больше не связывало Дика с этими местами, и он не думал, что когда-нибудь вернется сюда. Он опустился на колени. Он знал людей, которые лежали здесь, крепких, жилистых, с горящими голубыми глазами, людей, чьи души вылеплены были из новой земли во тьме лесных чащ семнадцатого столетия.
— Прощай, отец, — прощайте, все мои предки» (II, 228).
Оба эпизода как бы привлекают прошлое, причем неодинаковое. Разница заметна даже в чисто внешних деталях, вроде колокольни, с одной стороны, и невысокого холмика — с другой. Разной оказывается и связь этого прошлого с условным настоящим. В первом эпизоде характеристика главного действующего лица выступает наглядно, всей своей конкретностью подтверждая и раскрывая приводившееся общее положение об «ахиллесовых пятах» Дика. Не случайно, поняв, что именно Франц имеет в виду, Дик тут же признается: «Я просто расхвастался не в меру, а между тем вся работа еще впереди» (II, 148). Но наряду со связью времен подчеркивается, что времена меняются, причем такое изменение, не разрывая связи, может оказаться определяющим. Коренное различие в том и состоит, что Франц не может уже «свободно» следовать традиции, которую заложили и развивали его предки, он должен обратиться за помощью к Дику, а лучше сказать — к семейству Уорренов. В свете изложенного содержательное значение обретает и тот факт, что Франц даже не претендует на роль «лучшего из лучших», и дело здесь отнюдь не только в личных качествах. Потому-то в романе и подчеркивается, что самое вздорное «научное» выступление американца современные европейские корифеи принимают не так, как это сделал бы тот же Песталоцци. Причина ясна: пусть американец городит вздор, но за ним стоят большие деньги. Если мировая война развеяла некоторые исторически сложившиеся американские мифы, то и Европа вышла из нес не той, какой была раньше. Деньги, как подчеркивается во многих эпизодах романа, выступают здесь в качестве решающего фактора. При всех различиях Европы и Америки элемент этического и социального «сближения» обоих континентов выступает как следствие объективного исторического процесса. Та же идея заложена в описании похорон старого Дайвера, многозначительно дополняющем характеристику главного героя в первом из рассматриваемых эпизодов. Но чтобы оценить все значение намеченного лейтмотива, необходимо обратиться к реалистически-сатирической картине общественных нравов, раскрывающихся в серии живых сцен.
Заметной чертой изображения светского общества в романе является, во-первых, все та же конкретизация, а во-вторых, показ смешанного, американо-европейского состава этого общества. В «Гэтсби», если не касаться образов переднего плана, критика общества и его нравов зачастую имеет подобно многому другому обобщенную форму. В качестве примера достаточно, вероятно, напомнить «каталог гостей» Гэтсби. Изощренное писательское мастерство помогло Фицджеральду придать жизненную достоверность всем тем людям, сущность которых отражается в их именах и иногда в кратких характеристиках-пояснениях.
Совершенно иначе характеризуется общество в романе «Ночь нежна». Правда, и здесь есть элемент «обыгрывания» имен, но значение соответствующего эпизода неизмеримо меньше значения «каталога гостей». Тема только вводится в самом начале произведения и имеет существенные ограничения. Иначе и быть не может, поскольку в анализируемой книге принцип социально заостренной конкретизации является одним из основных принципов построения художественной модели. Понятно, что «портрет» общества, даже если исключить образы основных действующих лиц, должен создаваться на конкретном фундаменте. Действительно, обобщенный «портрет» социальной верхушки, того гюлифункционального человеческого фона, на котором развиваются основные сюжетные линии, складывается из всесторонне рассматриваемых образов эпизодических персонажей, составляющих большие или меньшие группы. При этом возникает определенная иерархия таких групп, а в совокупности они представляют картину чудовищного нравственного упадка.
На первый взгляд, хронотоп не имеет к этому отношения. В самом деле, обрисованный в начале романа кружок Маккиско, Кампиона, Дамфри и других состоит сплошь из американцев. Ничтожество этих людей, их аморальность, низкий интеллектуальный уровень раскрываются очень скоро и всесторонне, но это только начало разработки темы. Полное значение этого группового портрета, как и завершение его характеристики, выясняется лишь тогда, когда некоторые из составляющих его лиц вновь «входят» в сюжет на более поздних этапах его развития.
Конечно, упомянутая группа не единственная в романе. Когда Дик и Розмэри посещают дом на Rue Monsieur, выясняется, что даже знакомство с кружком Маккиско-Кампиона не подготовило девушку к тому, с чем ей пришлось столкнуться. Кого же Розмэри увидела этом доме? «Среди них можно было различить две группы. Одну составляли американцы и англичане, которые всю весну и псе лето неумеренно прожигали жизнь теперь в своих поступках следовали первому побуждение, часто необъяснимому для них самих. Они долгое время могли пребывать в сонном, безучастном состоянии, ютом вдруг срывались в ссору, истерику или неожиданный адюльтер. Другая группа, назовем ее эксплуататорской, состояла из дельцов, людей более трезвых и целеустремленных, не расположенных тратить время по пустякам. Эти куда лучше умели приспособиться к окружающей среде и даже задавали тон» (II, 83).
Здесь уже обращает на себя внимание упоминание англичан и американцев в «едином дыхании» — о национальной принадлежности «эксплуататоров» подчеркнуто ничего не говорится, потому что дельцы везде одинаковы. При всей краткости этой сцены, приведенная общая характеристика конкретизируется в нескольких микроэпизодах, и читатель уже не удивляется реакции Розмэри на увиденное (выйдя из этого дома, девушка плачет не может успокоиться). Завершение картины социального фона подготавливается еще двумя сценами, вводящими исключительно важный мотив психиатрической клиники. Это сцена профессиональной беседы Дика с сеньором Пардо-и-Сиудад-Реаль и его сыном, гомосексуалистом и алкоголиком, и следующая почти сразу же сцена скандала в клинике Дика и Франца (нужно отметить здесь безупречную точность архитектоники).
Заключительный этап истории Дика не только разворачивается на соответствующем фоне, но и непосредственно с ним связан. На этот раз картина развернута, включает все ранее упоминавшиеся элементы и заметно усиливается благодаря мастерскому применению различных средств художественного отображения. Картина эта строится из ряда сцен, имеющих важное значение в восьми (IV—XII) главах романа, предшествующих заключительной. В поле зрения читателя, естественно, попадают и старые знакомые, вроде миссис Абраме из группы Маккиско-Кампиона, и Мэри Норт, успевшая стать графиней Мингетти, и новые действующие лица из числа высокопоставленных или просто очень богатых прожигателей жизни, и малозначительные эпизодические персонажи, «фоновая» функция которых является, тем не менее, лишь одной из нескольких. Сведение воедино представителей разных социальных слоев-групп делает общую картину необычайно плотной и убедительной. Фон, таким образом, резко оттеняет катастрофу Дика и в то же время сам выступает особенно рельефно. Многочисленные великолепные детали и непосредственная связь действия с «внутренней» жизнью «фоновых» персонажей делает фон обязательным.
Центральное место на этот раз занимает характерная пара — графиня Мингетти и леди Керолайн Сибли-Бирс, до предела развращенная знатная англичанка, нашедшая достойную партнершу в лице бывшей жены Эйба Норта. Здесь все показано в непосредственном действии, и картина разврата, граничащего с отклонением от психической нормы (мотив психиатрической клиники), и картина «золотой» грязи получаст завершение в символическом единении Мэри Мингетти, «дочери мастера-обойщика и потомка Джона Тайлера, десятого президента США» (II, 62), и леди Керолайн, происходящей из знатного английского рода. В целом эффект таков, что читателя не могут удивить слова владельца отеля, честного буржуа Госса: «Я никогда не видел таких женщин, как эти женщины. Я знавал самых знаменитых куртизанок и ко многим из них относился с уважением — но таких женщин, как эти женщины, я не встречал никогда» (II, 337). Госс, конечно, не понимает, что раньше и не мог встретить «таких женщин». В заключении романа хронотоп подчеркивает единство всего содержания и строгую организацию повествования в целом.
Упомянутые особенности сами по себе едва ли могли бы обеспечить высокое художественное качество собственно «ткани» произведения. Успех Фицджеральда, создавшего прозу удивительной красочности и выразительности, обусловлен тем, что он неизменно следует все тому же принципу Конрада — прежде всего заставить читателя видеть. Здесь вновь приходится коснуться повествовательной перспективы и архитектоники.
Сочетание точки зрения «всеведущего» автора и одного из героев оказывается очень продуктивным в «показе» отдельной детали и целостной картины, а также в изображении действующих лиц. Большое значение, как нетрудно заметить, приобретает известная по технике кино смена планов. Переход от общего к среднему или крупному существенно увеличивает убедительность «зримой» картины или сцены, как бы направляет взгляд читателя то на общий фон действия, то на типичную «зримую» деталь, хорошо известную каждому но собственному опыту, то на несколько ограниченное пространство, в котором частности предстают иначе, чем при «показе» общим или крупным планом. Переход от одного плана к другому всегда осуществляется естественно, обусловливается логикой развития действия. Рассмотрим характерные примеры, учитывая полифункциональность применяемых автором художественных приемов.
В первом абзаце «Ночи» Фицджеральд дает общую характеристику того пространственного фона, на котором происходят многие события, важные для сюжета: «В одном приятном уголке Французской Ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта; но лет десять назад жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откочевывала на север. Теперь вокруг «Hotel des Еtrangers» Госса теснится много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десяток стареньких вилл вянущими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на пять миль, до самого Канна» (II, 7).
Именно отель с его пляжем занимает внимание писателя, но в то же время «справка» о месте действия как бы стремится расширить существенное пространство, а кроме того, вводится немаловажный элемент движения времени. «Живописность» абзаца еще минимальна, зато уже как бы просматриваются определенные хронотопические отношения. Одновременно намечается внутренняя, пока что скрытая связь первичного сообщения с действием как таковым и характеристикой персонажей. Приведенный абзац похож на зародышевую клетку, таящую немалые возможности роста и развития.
В следующем абзаце установка на «показ» выявляется в значительно большей мере. Конкретизируется время «осмотра». Речь идет уже не о годах до, во время или после действия, но о часе суток — раннем утре. Это определяет «качество» открывающейся перед читателем картины, ее краски, весь характер пейзажа, еще не оживленного фигурами людей. Идет как бы панорамирование, привлекающее большое пространство. Так начинается развитие «зародышевой клетки», причем идет оно по многим направлениям, включая и создающую настроение гамму красок, и образность, сочетающуюся с живописностью, и движение времени, подготавливающее следующий абзац, в котором — в уже «показанное» время на уже «показанном» месте — появляются, наконец, некоторые герои произведения, и в частности Розмэри, «взгляду» которой отдано такое большое место во всей этой части романа.
Поскольку и «общее», и конкретное время и место действия уже известны, писатель имеет возможность полностью сосредоточить внимание на внешности Розмэри и ее матери. Пространство «обзора» резко сокращается, «панорамирование» сменяется крупным планом, что само по себе указывает на важную роль входящих в повествование персонажей. При этом в живописности и образности «представления» каждого из двух лиц, а также в неодинаковом пространстве, отведенном «показу» одного и другого «портрета», отражается соответственное их значение для дальнейшего. До сих пор автор «показывал» как бы немое кино. Основным аппаратом восприятия описываемого было зрение, а не слух, но третий абзац, в котором находим конкретизирующий крупный план, готовит раскрытие образа изнутри. Только теперь читатель получает возможность не просто «увидеть», но и «услышать» героев. Следует тщательно подготовленный диалог — переход от «немого кино» к «звуковому».
На всем протяжении повествования указанные особенности «изображения» сохраняются и развиваются. Когда, например, Розмэри выходит на веранду отеля, перед ней открывается вид на море с пляжем и загорающими или купающимися людьми. Это снова «общий план», но здесь картина, возникающая перед девушкой, незаметно дополняется «всеведущим» автором и как бы попадает в пересечение двух взглядов — героини, как бы отмечающей внешнюю, «видимую» сторону, и писателя, который, освободившись от необходимости «показывать» картину, раскрывает ее типичные внутренние черты. В результате сцена в целом обретает объемность и убедительность, ее «зримая» сфера становится абсолютно достоверной. Так, Розмэри видит трех английских нянюшек, видит, что они разговаривают друг с другом, но только автор может охарактеризовать этот разговор: «... пересуды, монотонные, как причитания» (II, 9). Но вот Розмэри плывет, достигает мелководья и идет, «с усилием преодолевая бедрами сопротивление воды» (II, 9). Общий план вновь сменяется крупным, а картина, резко сузившись, сохраняет свою «зримость», что в немалой мере обеспечивается косвенным указанием на то, какая часть тела девушки «видна» над водой. Исключительно важно также, что «зримость» дополняется всесторонним чувственным восприятием: «Вода подхватила ее, любовно спрятала от жары, просачиваясь в волосы, забираясь во все складочки тела» (II, 9). Здесь уже автор, рассказывая о том, что чувствует героиня, обращается к чувственному опыту читателя и опять такн раскрывает внутреннее содержание «видимой» сцены.
Уже, вероятно, ясно, что установка на «показ» в большой мере воплощается в подчеркнутой живописности письма. При этом, конечно, собственно живописная палитра имеет огромное значение. «Ночь нежна» — произведение, буквально насыщенное цветом, но иначе, чем это было в книге «Великий Гэтсби» или ранних романах писателя. Упоминавшаяся конкретизация художественной модели, приближение ее к отображаемой действительности определили существенное уменьшение элемента символики. В «Гэтсби» цвет чаще всего имеет символическое значение, которое как бы превалирует над его собственно живописной функцией. Этого никак нельзя сказать о цвете в книге «Ночь нежна». Может показаться, что писатель вернулся к прежней манере использования цвета, но, думается, такой вывод был бы слишком поспешным. Уже из сказанного видно, что использование цвета на этот раз отличается особой сложностью, вовлекает множество аспектов, связывающих внешнюю, «видимую» сторону со стороной внутренней, содержательной. Цвет, таким образом, дается как бы на более высоком уровне, чем в ранних романах, выступает не просто в роли средства живописания, а в непростом органическом сочетании со всеми остальными частностями художественной системы произведения, является ее неотъемлемым компонентом.
На этот раз цвет, помимо прочего, функционален. Подчас даже как бы демонстративное отсутствие цвета там, где он, казалось бы, обязателен, если читатель должен «увидеть» картину, только усиливает, обостряет «зримое» и вообще чувственное восприятие. В целом же, особенности использования цвета в романе «Ночь нежна» чрезвычайно отчетливо проявляются в трех случаях: когда существенное значение приобретает характерная деталь, при обрисовке «портрета» действующего лица и, наконец, в пейзаже. Рассмотрим эти случаи на одном-двух примерах.
"Если рассуждать абстрактно, может показаться странным, что именно Мэри Норт, ставшая Мэри Мингетти, воплощает в книге, вместе с леди Керолайн, крайнюю степень разложения американо-европейского общества. Действительно, Мэри с самого начала входит в кружок Дайверов. Более того, будучи женой Эйба, она, по-видимому, вполне разделяет отношение мужа к группе Маккиско-Кампиоиа. Когда Дик сообщает, что Маккиско и другие читают учебник хорошего тона, Эйб не упускает случая посмеяться над ними: «Собираются врашшаться в вышшем обществе,— сказал Эйб» (II, 26). Через минуту присоединившаяся к своему кружку Мэри говорит в унисон мужу: «А-а, я вижу, мистер и миссис Футынуты уже здесь» (II, 26). Можно ли из сказанного сделать далеко идущие выводы? Оказывается, нельзя, и причина в том, что Мэри Норт — единственный член кружка Дайверов, чей образ не получает существенного раскрытия вплоть до третьей книги, и, кроме приведенной фразы, читателю не на чем основывать свое суждение. Конечно, это не случайность. Посмотрим, как «показана» Мэри в начале повествования.
Впервые Мэри предстает перед читателем, когда Розмэри, только что поселившаяся в отеле Госса, подплывает к плоту: «...какая-то дочерна загорелая женщина с очень белыми зубами встретила ее любопытным взглядом...» (II, 9). Так появляется живописная деталь (загар, оттеняемый белизной зубов), которая на долгий срок остается основной отличительной чертой супруги Эйба. При этом здесь же тонко намечается внутренняя связь Мэри с кружком Маккиско-Кампиона. Все его члены, в отличие от Дика, Эйба, Николь и даже Барбана, вызывают неприязнь Розмэри именно своей беззастенчивостью, в частности тем, что разглядывают се с откровенным любопытством. При втором упоминании Мэри о ней говорится: «...та белозубая женщина, которую Розмэри заметила на плоту; она сразу увидела Розмэри и, как видно, узнала» (II, 11). Снова та же деталь и та же неназойливая параллель с членами кружка Маккиско, сразу узнавшими юную кинозвезду и давшими это понять. Следующее упоминание о Мэри Норт выглядит так: «Вернулась после купания Мэри Норт, та дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмэри в первый день видела на плоту, и сказала, сверкая озорной улыбкой...» (II, 26). Вновь та же частная особенность внешности, тогда как портреты остальных членов кружка Дайверов уже даны во многих существенных подробностях. В течение длительного времени о Мэри вообще не говорится ни слова. В следующий раз она попадает в поле зрения читателя, когда рассказывается о том, в каком порядке гости сидят за столом на вечеринке у Дайверов: «Потом Мэри Норт, которая так весело сверкала в улыбке белыми зеркальцами зубов, что, глядя на них, трудно было не улыбнуться в ответ,— казалось, во всех порах кожи вокруг ее полуоткрытого рта разлито удовольствие» (II, 41—42). Когда, через двадцать страниц, о Мэри говорится в следующий раз, то просто устанавливается се происхождение.
Ясно, что образ Мэри «представляется» не так, как образы всех остальных центральных и эпизодических персонажей. Характеристика Мэри минимальна, молодая женщина почти незаметна в кружке Дайверов, присутствие ее скорее молчаливо подразумевается, чем проявляется в словах или действии. Даже на вечеринке она выказывает только удовольствие, причем молчаливо, и можно полагать, что оно вызвано богатой и изысканной обстановкой. Зато неизменно подчеркивается одна и та же живописная деталь, что заставляет задуматься о ее значении. Смысл такого акцентирования в том и состоит, чтобы показать, что Мэри лишь внешне принадлежит к группе Дайверов. Пока она с ними, о ней просто больше нечего сказать. На самом же деле она значительно ближе к Маккиско, Кампиону и прочим. Живописная деталь, включающая цвет и обеспечивающая «зримость», несет существенную содержательную нагрузку, полное значение которой раскрывается далеко не сразу.
То же можно сказать относительно многих «зримых» деталей внешности различных персонажей. Например, когда Розмэри впервые обращает внимание на группу Дайверов, она прежде всего замечает Николь: «С другой стороны, совсем неподалеку, лежала под зонтом молодая женщина... ее обнаженная спина блестела на солнце; нитка матового жемчуга оттеняла ровный апельсинно-коричневый загар» (II, 11). Вновь «зримая» подробность, включающая контрастное сопоставление цветов и имеющая смысловые обертоны, значение которых выяснится в дальнейшем. Наличие этих обертонов подчеркивается неоднократным упоминанием жемчужного ожерелья (например: «Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину...»; II, 22). При этом такие упоминания вполне естественны, так как в начале действия Розмэри еще не знакома с кружком Дайверов и различает его членов по «зримым» деталям.
Несколько более простой случай функциональности цвета дает следующий пример. Вот как Розмэри впервые видит тех, кто находится на пляже вместе с Николь: «Рядом сидел стройный мужчина в жокейской шапочке и трусиках в красную полоску... Еще дальше — мужчина в синих трусиках... был занят оживленной беседой с молодым человеком явно романского происхождения в черных трусиках...» (II, И). В течение некоторого времени Розмэри предстоит различать всех этих людей главным образом по цвету их купальных трусов.
Наконец, возьмем изумительную по точности и красочности деталь, в которой отсутствие цвета оказывается более выразительным, чем было бы его наличие. Розмэри впервые выходит на веранду отеля Госса: «...на миг она попятилась — от горячего света больно стало глазам. В полусотне ярдов плескалось Средиземное море, понемногу отдавая беспощадному солнцу свою синеву; у самой балюстрады пекся на подъездной аллее выцветший «бьюик» (II, 9). В оригинале вместо слова «синева» стоит более общее «краски» («pigments»). Этим подчеркивается разнообразие присущих морю красок, а также то ощущение жары, которое стремится передать автор. Кажется, даже море обесцвечивается в палящем блеске солнца, и выразительная деталь обретает завершенность при естественном движении взгляда девушки от далекого к близкому: о цвете «бьюика» ничего не сказано, хотя, конечно, он поддается определению. Море отдавало свои краски солнцу, а «бьюик» как бы вовсе утратил цвет, и в сочетании со словом «пекся» это делает жару для читателя почти физически ощутимой.
Сопоставление «портретов» действующих лиц убедительно свидетельствует, что «зримое» представление внешности отмечено не меньшей сложностью. И здесь цветовой элемент сочетается с образностью, а все лексическое оформление непременно обусловливается той или иной существенной чертой «показываемой» личности, причем и лексика, и тропы, как правило, эмоционально окрашиваются. Разумеется, необходимо учитывать контекст, в котором появляется каждый «портрет», а также принадлежность обращенного на него взгляда.
Вот как автор видит миссис Спирс и Розмэри при первом их появлении: «Лицо матери было еще красиво той блеклой красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью багровых прожилок; взгляд был спокойный, но в то же время живой и внимательный. Однако всякий поспешил бы перевести глаза на дочь, привороженный розовостью ее ладоней, ее щек, будто освещенных изнутри, как бывает у ребенка, раскрасневшегося после вечернего купанья. Покатый лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, завитками пепельно-золотистого оттенка. Глаза большие, яркие, ясные, влажно сияли, румянец был природный — это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами молодого, крепкого сердца. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства: без малого восемнадцать — уже почти расцвела, но еще в утренней росе» (II, 8).
Великолепно передавая это сложное описание по-русски, переводчик все же допускает,— конечно, вынужденно,— некоторые досадные отступления от оригинального текста. Так, в оригинале нет «сети багровых (прожилок)». Слово «багровый» вызывает неприятные ассоциации, а слово «сеть» усиливает это впечатление. Между тем в оригинале подчеркиваются другие черты лица миссис Спирс, причем доминирует выражение «блеклая красота» (может быть, английское «prettiness» лучше было бы передать русским «миловидность»). Блеклость внешности матери — главное, что видит автор, и появление резкого цветового пятна («багровые») приводит к нарушению цельности общего впечатления. Но, как это было и в «Гэтсби», язык Фицджеральда высоко идиоматичен, что и делает трудности перевода порой непреодолимыми. Без слов ясно, что Розмэри унаследовала красоту от матери, но далеко превзошла ее в этом отношении. Общее впечатление от внешности миссис Спирс должно, по авторскому замыслу, быть приятным, что в оригинале подчеркнуто словом «pleasant» — «приятный», также выпавшим в переводе. Тесная духовная близость матери и дочери косвенно отражается в том, что оба «портрета» даются в одном абзаце. Краткость описания внешности миссис Спирс находит естественное объяснение в привлекающей внимание красоте Розмэри.
Внешность дочери в определенном смысле контрастирует с внешностью матеря. Юность выступает как живое отрицание блеклости. Появляются краски, нежные и в то же время яркие, общее впечатление подчеркивается серией лексических пар, образованных существительным и определяющим его прилагательным: «lovely flame», «thrilling flush», «cold bath». Одновременно конструируется тонкая ритмическая структура предложения, далеко не безразличная впечатлению, которое стремится создать писатель.
Мы уже коснулись ритма фразы. В нем можно увидеть определенное соответствие содержанию. Основное значение эпитета «broken» (его смыслу в переводе соответствует слово «багровых») — «сломанный», «разбитый». Краткость описания миссис Спирс сама по себе исключает построение заметной ритмической структуры, описание это резко обрывается. Во внешности Розмэри нет ничего, что могло бы вызвать появление такого слова в описании, и ритмическая цельность посвященного ей пассажа составляет формальную основу «видимой» цельности всего ее облика. Вот только один пример. Русскому — ритмически очень удачному — «без малого восемнадцать — уже почти расцвела» в оригинале соответствует «almost eighteen, nearly complete». Здесь каждое слово имеет два слога, причем «almost» и «nearly» являются синонимами, а в словах «eighteen» и «complete» есть даже звуковая аналогия. Конечно, ритм прозы принципиально отличен от ритма стиха, по-разному используется и аллитерация гласных звуков, и напрасно стали бы мы отыскивать в каждой фразе Фицджеральда черты поэтической техники, но в целом мастерство писателя в немалой мерс определяется тем, что его лексика и синтаксис существенно способствуют созданию необходимого впечатления. Чтобы закончить с портретом Розмэри, отметим общность восприятия ее внешности автором и героем. Когда на девушку смотрит Дик Дайвер, он видит то же, что и автор, но по-своему. Так общее впечатление усиливается, становится «зримым», а одновременно скрыто намечается отношение писателя к своему герою.
На Николь Розмэри смотрит вместе с автором: «Розмэри решила, что ей должно быть года двадцать четыре; на первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина», но если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление — будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной роденовской лепкой, с той яркостью красок и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном, волевом характере; но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красивости — настолько, что еще чуть-чуть — и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ; изогнутые, как у красавицы с журнальной обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица» (II, 22).
Здесь нетрудно отличить то, что видит Розмэри, от того, что видит автор, но совмещение обоих взглядов возможно и естественно, потому что главное в данном случае — не частности, не отдельные конкретные черты, а общее впечатление. Именно поэтому мы пока что ничего не узнаем, например, о волосах Николь, о цвете ее глаз или кожи, о форме носа. Розмэри просто видит, что Николь красива и, может быть, испытывает смутное недоумение, поскольку есть в этой красоте что-то ускользающее от ее понимания, но автор знает (видит) больше, и стержнем в обрисовке портрета Николь оказывается многозначительная противительная интонация, обнаруживающая внутреннее соответствие внешнего облика и характера героини. Так уже в портрете намечается раскрытие образа. Параллельно создается фундамент лейтмотива, которому только предстоит появиться: важнейшая противительная интонация есть и в обрисовке внешности Барбана, на которого Розмэри тоже смотрит вместе с автором. Этот последний момент отнюдь не случаен. Чтобы сделать впечатление достоверным, а портрет «зримым», нужны, как в обеспечении чистоты эксперимента, одинаковые условия.
Какие-то смущающие Розмэри черты обнаруживаются и в том впечатлении, которое производит на нее Эйб Норт. Только Дик Дайвер в этом отношении резко отличается от всех членов своего кружка: «Но Дик Дайвер — тут не нужны были никакие оговорки. Она молча любовалась им. Солнце и ветер придали его коже красноватый оттенок, и того же оттенка была его короткая шевелюра и легкая поросль волос на открытых руках. Глаза сияли яркой, стальной синевой. Нос был слегка заострен, а голова всегда была повернута так, что не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован его взгляд или его слова» (II, 25).
Непосредственно перед описанием внешности Дика автор охарактеризовал Розмэри как цельную натуру, и цельность облика героя, соответствующая прямоте его манеры, естественно, привлекает девушку. В оригинале даже употребляется слово «complete» («завершенный», «полный»), которое было использовано и при описании самой Розмэри. Та же цельность подчеркивается единством цвета, и тут тоже есть определенная параллель портрету Розмэри. В облике девушки акцентируется нежная розоватость, в облике Дика — мужественный красноватый оттенок, обусловленный загаром и обветренно-стью, а потому не таящий никакой неприятной коннотации. Цельная мужественность сквозит и в отдельных чертах его внешности, а «слегка заостренный нос» как бы подчеркивает прямоту его взгляда (об этом и говорится в одном предложении). Сама внешность Дика выделяет его среди окружающих. Так косвенно отражается его роль в произведении, а одновременно психологически обосновывается то чувство, которому предстоит занять важное место в развитии отношений Розмэри и Дика и в развитии всего сюжета.
Установка на «показ» еще более очевидна в пейзаже. Приведем лишь один небольшой отрывок: «Отель и охряный молитвенный коврик пляжа перед ним составляли одно целое. Ранним утром взошедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые и кремовые стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воде, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь» (II, 7). Здесь все видно, как на полотне импрессиониста. Элемент образности превосходно сочетается с гаммой красок. Значение их подчеркивается в оригинале субстантивацией соответствующих прилагательных («the pink and cream of old fortifications»), живописность выступает как бы в чистом виде, и в целом создается «зримая» и прекрасная картина природы, тем более реальная, что неизбежные и строго определенные ассоциации, искусно вызываемые в уме читателя, помогают ему «увидеть» ее. При этом пейзаж в романе не самодовлеющ. Он органически входит в действие, связывается с характерами персонажей. Утренний пейзаж прекрасен, и когда читатель узнает, что изумительно красивое место было «открыто» Диком Дайвером, уговорившим к тому же Госса не закрывать отель в конце сезона, характеристика личности героя существенно дополняется. Можно заметить также, что красота природы заметно оттеняет раскрытое в произведении социальное неблагополучие. Утренний пейзаж невольно вспоминается в сцене прощания Дика с дорогими ему местами.
*
«Ночь нежна» — неоспоримое достижение писателя, В романе существенно развиты возможности, заложенные в найденной автором художественной модели действительности. Социальная сфера произведения заметно расширена. Основная проблематика и тематика Фицджеральда-романиста разработана по-новому, отражена в ряде содержательных образов, органически связанных с широким, убедительно выписанным фоном. Книга выдержала испытание временем. Многие нити связывают ее с современностью, а этический аспект поставленных в ней больших вопросов сохраняет непреходящее значение.
Даже среди лучших произведений 30-х годов «Ночь нежна» выделяется глубиной социально-психологического анализа, тщательной организацией повествования, высочайшим уровнем художественности. Всем этим и объясняется отмеченная еще Хемингуэем, очень ревниво относившимся к успехам собратьев по перу, особенность романа. Процитируем А. Старцева: «Сперва объявив «Ночь нежна» неудачей (в письме к самому Фицджеральду сразу по выходе книги), Хемингуэй уже через год писал Максуэллу Перкинсу (общему другу его и Фицджеральда): «Странное дело, по прошествии времени «Ночь нежна» кажется мне все лучше и лучше». Позже, уже после смерти Фицджеральда, он написал (тоже в частном письме), что «Ночь нежна» — лучшая книга Фицджеральда, что он находит в ней и трагизм, и магию искусства» [40].
Все многообразное содержание романа «Ночь нежна» трудно постичь при первом прочтении, а высокая художественность произведения заставляет обращаться к нему снова и снова, доставляя все растущее эстетическое наслаждение. «Великий Гэтсби» возвестил появление в мировой литературе замечательного таланта. «Ночь нежна» подтверждает репутацию Фицджеральда как одного из крупнейших писателей XX в.
Примечания
1 Dear Scott/Dear Max, p. 104.
2 Perosa S. Op. cit., p. 109.
3 Bruccoli M. J. The composition of tender is the night. A study of the manuscripts. Pittsburgh, 1963, p. XXII - 17.
4 Ibid., p. 4.
5 Chamberlain I. Tender is the night. - In: Collection 1, I p. 95-98.
6 Grattan C. N. Tender is the night.- In: Collection 1. p. 104-105.
7 Marshall M. On rereading Fitzgerald,- In: Collection 1, p. 114.
8 Berrryman J. F. Scott Fitzgerald. Kenyon Review. VIII, Winter 19-16, p. 107.
9 Vanning A. Fitzgerald and his brethren.- In: Collection 2, p. 61; Weir C. Jr. An invite with gilded edges,- In: Collection 1, p. 143.
10 Power without glory.-In: Collection 1, p. 209.
11 Fiedler L. Some notes on F. Scott Fitzgerald.- - In: Collection 2, p. 73-75.
12 Hall W F Dialogue and theme in Tender is the night. Modern language notes, 1961, LXXVI, p. 616-622.
13 Perosa S Op. cit., p. 109-129.
14 Mizener A. Scott Fitzgerald and his world, p. 266-267.
15 Gross K. G. W. Op. cit., p. 79-88.
16 Geismar M. The last of the provincials, p. 329.
17 Sklar R. F. Op. cit., p. 257-292.
18 Callahan J. F. The illusions of a nation. Myth and history in the novels of F. Scott Fitzgerald. Urbana; Chicago, 1972, p. 63-189.
19 White F. The "Intricate destiny" of Dick Diver. Modern fiction studies, 1961, VII, Spring, p. 55-62.
20 Doherty W. E. Tender is the night and the "Ode to a Nightingale".-In: Collection 4, p. 112-126.
21 Miller J. E. Jr. F. Scott Fitzgerald. His art and his technique, p. 139.
22 Piper H. D. F. Scott Fitzgerald, p. 210-211.
23 Мендельсон М. О. Творческий путь Френсиса Скотта Фицджеральда, с. 205.
24 Там же, с. 209.
25 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэи, с. 281, 282.
26 Там же, с. 302.
27 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 116.
28 Там же, с. 120-121.
29 Там же, с. 122-123.
30 Miller J. Е. Jr. F. Scott Fitzgerald..., p. 141.
31 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 289-290.
32 Смысл этого сопоставления подробно и верно рассматривает Л. Н. Горбунов (Назв. работа, с. 110-112).
33 Sklar R. Op. cit., p. 272.
34 Bruccoli М. J. Op. cit., p. 96-97.
35 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 2. М., 1962, с. 183.
36 Этот эпизод точно интерпретирован в приводившейся работе А. Старцева (Назв. работа, с. 292-293).
37 Например: Sklar R. Op. cit., p. 274.
38 Мендельсон М. О. Творческий путь Ф. С. Фицджеральда, с. 206.
39 Bruccoli M. J. Op. cit., p. 87.
40 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 304.
Далее: глава пятая Неоконченный шедевр
Опубликовано в издании: Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. Киев: Наукова думка, 1984 (монография).