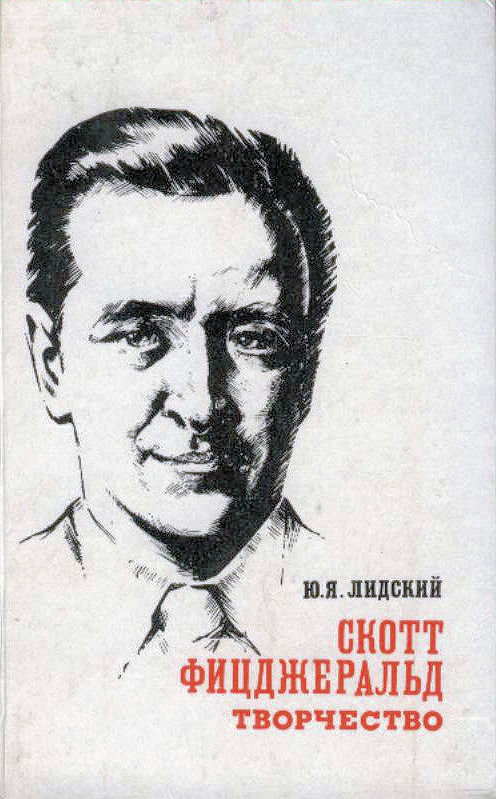Юрий Яковлевич Лидский
Скотт Фицджеральд - Творчество
Глава первая
Вширь и вглубь: рассказы разных лет
Когда, в 1909 г., тринадцатилетний Фицджеральд написал свой первый рассказ, едва ли кто-нибудь мог предполагать, что юному автору предстоит стать одним из крупнейших американских писателей XX в. Тем не менее именно эта дата отмечает начало литературного ученичества Фицджеральда. Критик Дональд А. Йейтс в содержательной статье рассматривает раннюю новеллистику писателя и, не преувеличивая значения его детских и юношеских произведений, делает ряд наблюдений, представляющихся неоспоримыми. Так, он отмечает, что уже в 1909 г. будущего писателя занимает построение сюжета; в дневнике, который Фицджеральд вел в 1910—1911 г., проявляется умение наблюдать; в рассказах 1912—1913 гг. заметен интерес к характерам богатых молодых людей, а в новеллистике студенческих лет «чистый» юмор все больше уступает место иронии. Исследователь приходит к заключению, что в творчестве Фицджеральда едва ли можно четко разграничить периоды литературного ученичества и создания первых романов [1].
При жизни писателя вышло четыре сборника его рассказов. Первый из них — «Эмансипированные и глубокомысленные» («Соблазнительницы и философы») — в соответствии с практикой издательства был опубликован вслед за романом «По эту сторону рая» в 1921 г. Сборник включает восемь рассказов из числа написанных в 1920 г. В следующий сборник «Сказки Века Джаза» (1922) вошли одиннадцать рассказов, созданных в 1920—1922 гг. Книга «Все эти печальные молодые люди» (1926) составлена из девяти рассказов 1922—1926 гг. В 1935 г. был издан последний прижизненный сборник «Сигналы побудки». В него входят восемнадцать рассказов 1928—1935 гг. Хотя названные сборники включают некоторые лучшие рассказы писателя, они все же не дают полного представления о всей его новеллистике.
В 1951 г. вышла большая книга «Рассказы Ф. Скотта Фицджеральда». Составляющие ее двадцать восемь рассказов, тщательно отобранные М. Каули, охватывают два десятилетия творчества, начиная с 1920 г. Были также опубликованы циклы рассказов, объединенные общим героем: рассказы о Бейзиле Ли, отражающие впечатления автора в школьные годы, цикл о Джозефине Перри, рисующий характер «эмансипированной» девушки 20-х годов, и цикл из семнадцати рассказов о Пэте Хобби, спивающемся голливудском сценаристе, знававшем лучшие дни. Весьма представительная подборка рассказов и эссе Фицджеральда, составленная А. Майзенером, была опубликована в 1957 г. под названием «Писатель после полудня». В 1973 г. вышел еще один сборник, включающий некоторые ранее несобранные рассказы Фицджеральда (и образцы творчества Зельды Фицджеральд). Последний посмертный сборник, вышедший в 1979 г., завершает, насколько нам известно, знакомство современного читателя с несобранной новеллистикой Фицджеральда.
Трудно сказать, сколько всего рассказов принадлежит перу писателя. Цифра значительно возрастает, если включать в список детские и юношеские произведения, но и принятое в критике количество сто шестьдесят выглядит очень внушительно.
«Фицджеральдиана» до сих пор не уделяет новеллистике писателя достаточного внимания. М. Коренева справедливо констатирует неудовлетворительность такого положения [2]. Отмечая, что некоторые исследователи вообще не считают нужным рассматривать новеллистику Фицджеральда, а другие находят этот аспект его творчества второстепенным, чем-то вроде «банка», где происходило накопление идей, тем, художественных решений, нашедших впоследствии адекватную реализацию в его романах, М. Коренева с полным, па наш взгляд, основанием утверждает: «Лучшие рассказы Фицджеральда... несомненно входят в золотой фонд американской новеллистики» [3]. Заметна также тенденция непосредственно связывать новеллистику и биографию писателя (биографизм). Нередко критическая оценка новеллистики Фицджеральда сводится к подчеркиванию высокого художественного качества отдельных его рассказов, к частным критическим замечаниям.
В чем же причина недооценки или односторонней и недостаточной оценки новеллистического наследия писателя? Вопрос этот далеко не так прост, как может показаться с первого взгляда. Известно, что, идя на уступки популярным журналам, платившим высокие гонорары, Фицджеральд рано начал рассматривать свои рассказы в основном как средство собрать деньги, чтобы без помех работать над очередным романом. Он прекрасно понимал, какие из его рассказов серьезны и значительны, а какие написаны ради денег, но в целом был склонен резко, подчас даже пренебрежительно отзываться о собственной новеллистике. Это, конечно, не могло не оказать влияния на критику, но едва ли исчерпывает вопрос.
Отношение писателя к собственной новеллистике М. Коренева объясняет следующим образом: «Немаловажную роль сыграло, к примеру, то, что Фицджеральд свято уверовал в одно из положений, высказанных в статье «Истинная награда романиста» Ф. Норриса, писателя, оказавшего особенно сильное влияние на Фицджеральда в... ранний период его творчества. В статье говорилось, что писатель не должен рассчитывать на коммерческий успех романа — подлинной наградой для него будет истинность запечатленной в нем жизни. У Фицджеральда это высказывание трансформировалось таким образом, что роман оказывался единственной формой, в которой возможны подлинные художественные открытия. Новелла, в результате, закреплялась в сознании писателя как нечто находящееся на периферии творчества» [4].
Действительно, отнюдь не умаляя достоинств и значения лучших рассказов писателя, приходится признать, что свои принципиально художественные открытия он сделал именно в жанре романа, и это трудно рассматривать как случайность. Разумеется, необходимость зарабатывать, финансовая зависимость от популярных журналов сыграла свою печальную роль. Но такое объяснение вряд ли можно считать исчерпывающим. Вероятно, особое отношение Фицджеральда к роману определяется, независимо от его обоснованности, не тем или иным влиянием, а более глубокими причинами.
Выше говорилось о значении 20-х годов нашего века для литературы США. Вот что пишет в связи с этим А. Старцев: «В развитии американской литературы XX века новелла не играет более той роли, которая позволила Брету Гарту назвать ее «национальным жанром американской литературы». Первые два десятилетия XX века были ознаменованы в США долгожданным появлением большого социального романа... В течение 20-х и 30-х годов... американский роман получил широкую известность и вывел новейшую американскую литературу в ряд с литературами западно-европейских капиталистических стран. Новелла следует теперь в основном в фарватере романа и выражает вместе с ним (и вслед за ним) важнейшие черты социального и литературного развития новейшего времени» [5]. Можно, вероятно, полагать, что отношение Фицджеральда к роману и рассказу в основном отражает исследованную А. Старцевым (и другими) «переоценку» жанров, что, конечно, не исключает влияния иных факторов. Не случайно крупнейшие американские прозаики 20-х годов выступают в первую очередь как романисты. Так или иначе, огромное и, при всей неравноценности, неизменно талантливое новеллистическое наследие Фицджеральда заслуживает внимания и изучения ничуть не меньше, чем новеллистика его прославленных современников.
Легко заметить, что первый прижизненный сборник Фицджеральда в определенных аспектах отличается от последующих. В нем меньше серьезных рассказов, некоторые из них несут явные следы художественного несовершенства. Социальная проблематика затрагивается мало, и, вероятно, есть основания считать книгу «Эмансипированные и глубокомысленные» наименее значительным из прижизненных сборников. Можно ли утверждать, исходя из сказанного, что в 1920 г. писатель еще не был зрелым новеллистом? Нам кажется, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Лучший из рассказов 1920 г. вошел в другую, более позднюю книгу, и это вообще ставит под сомнение целесообразность анализа новеллистики писателя «но сборникам». Ни одна прижизненная книга рассказов Фицджеральда не отмечена тем внутренним единством, которое характерно, например, для сборников Хемингуэя. Общая тональность «Сигналов побудки» и даже «Сказок Века Джаза» более трагична, чем тональность «Эмансипированных», но единого стержня в прижизненных книгах рассказов нет. Зато есть нечто другое: наряду с серьезными произведениями — рассказы «коммерческие». Кроме того, как упоминалось, далеко не все рассказы тех или иных лет входят в соответствующие сборники. Поэтому лучше, вероятно, рассматривать новеллистику Фицджеральда по периодам и проблемам, привлекая для анализа необходимые рассказы из разных сборников, но прежде представляется уместным выяснить особенности его «коммерческой» прозы.
Для популярных журналов Фицджеральд писал много и в сущности постоянно. Эта работа не приносила ему удовлетворения, отнимала время и силы. В его письмах нередко встречаются жалобы на то, что серьезный рассказ, над которым пришлось основательно потрудиться, почти не приносит денег, а развлекательный пустячок немедленно находит сбыт и высоко оплачивается. В 1922 г. в письме Эдмунду Уилсону Фицджеральд сообщает: «Я написал два замечательных рассказа и получил хвалебные письма от шести редакторов с добавлением, что «наши читатели, однако, были бы оскорблены». Очень обескураживает» [6]. Семь лет спустя в письме Хемингуэю делается симптоматичное признание: «Вот тебе последняя искра старой дешевой гордости: «Пост» теперь платит старой шлюхе 4000 долларов за визит» [7]. Подчас в «коммерческом» рассказе использовался хороший материал, и писатель, скрепя сердце, придавал ему «облегченную» трактовку и придумывал счастливый конец. Некоторые рассказы представляют собой типичные образцы так называемой «success story» («истории преуспеяния»). Если читать рассказы Фицджеральда подряд, нельзя не испытать глубокого сожаления из-за того, что он шел на компромисс, так часто растрачивал огромное дарование на пустяки, потрафляя вкусам буржуазной публики.
Разумеется, компромиссную позицию писателя оправдать невозможно. Какие бы обстоятельства ни принимались во внимание, она может расцениваться лишь как проявление слабости. Тем не менее, когда речь идет о большом таланте, нужно, нам кажется, проявлять осторожность в суждениях. Сам Фицджеральд никогда и не помышлял об издании полного собрания своих рассказов, но и наиболее поверхностные из них, даже тс, в которых обнаруживаются признаки ремесленничества, все же отличаются богатством выдумки и расцвечиваются блестками подлинного таланта. Поэтому им свойственна внутренняя противоречивость. Понятно, что в «коммерческих» рассказах нет и не может быть серьезной социальной проблематики, но в большинстве случаев у Фицджеральда в таких произведениях есть обычные для него точные приметы времени, намечены типичные характеры, даны выразительные зарисовки быта. Вероятно, именно это объясняет приводимое А. Майзенером раздраженное возражение писателя одному из критиков: «На бутылке спиртного не напишешь рассказ для «Сэтердей Ивнинг Пост» [8]. Проиллюстрируем сказанное на примере новеллы «Прибрежный пират», впервые опубликованной именно в «Пост».
М. Коренева с полным основанием считает «Пирата» «классическим примером» поточного производства всех новых вариантов «приключений беззаботных «соблазнительниц и философов», которым все сходит с рук, потому что любые самые смелые их выходки надежно прикрыты солидным банковским счетом» [9]. Сюжет рассказа сводится к следующему. Юная Ардита Фарнэм, «эмансипированная», скучающая и очень богатая, отказывается знакомиться с богатым же Тоби Морлэндом, которого ее респектабельный дядюшка прочит ей в женихи. Она собирается замуж за не очень молодого прожигателя жизни, пленившего ее своим живым воображением. В глазах девушки этот авантюрист и сластолюбец — фигура романтическая. Он даже обещает ей браслет, некогда принадлежавший русской царице. Ардита уверена, что по первому ее слову он поспешил расстаться с прежней любовницей. После очередного скандала дядюшка оставляет Ардиту на яхте, стоящей на якоре. В тот же день яхту захватывает симпатичный молодой человек, сопровождаемый группой негров. Ардита отказывается покинуть судно, и пират, рассказавший девушке о совершенном им ограблении, укрывает яхту в незаметной бухточке одного из близлежащих островков. Спустя три дня, проведенных героями в идиллической обстановке, их обнаруживает хорошо вооруженное таможенное судно. Ардита, успевшая влюбиться в пирата, с изумлением узнает, что похищение было инсценировано Tоби Морлэндом, тем самым, за которого ее хотел выдать заботливый дядюшка. Следует счастливый конец.
С первых слов рассказа «задается» его облегченный характер: «Эта неправдоподобная история начинается па море, похожем на голубую мечту, ярком, как носки голубого шелка, и под небом голубым, как зрачки детских глаз» [10]. Так, вводная фраза сразу даст понять, что история не только неправдоподобна, но вообще имеет весьма отдаленное отношение к реальности. Читателя как бы приглашают поверить, что автор не собирается омрачать его настроения описанием трудностей жизни. Лексика, краски, тропы, спокойный ритм фразы — все предвещает красивую сказочку. Следующий за процитированным предложением пейзаж еще больше усиливает первое впечатление. Красочное сочетание голубого, белого и золотого цвета, троекратное употребление прилагательного «golden» («золотой», «золотистый»), конечно, не случайно находит параллель в цвете волос героини, упоминаемом в последнем предложении того же абзаца.
Такая облегченность отмечает все дальнейшее повествование. Поверхностна ирония в описании появления дядюшки. «Пираты» оказываются прекрасными музыкантами, и все действие проходит под приятные звуки их инструментов и пения. Тоби выдает себя за руководителя музыкального ансамбля, а свои действия — за бунт против «аристократии», которая хорошо оплачивает его выступления, но не допускает в свою среду. Нет ничего удивительного в том, что Ардита не пугается «пирата»; даже принимает его сначала за подвыпившего студента. Да и можно ли испугаться, если «пират» начинает свои распоряжения на палубе словами: «Женщины и дети будут пощажены!.. Все плачущие младенцы будут немедленно утоплены, а все мужчины закованы в двойные кандалы!» [11]. «Захват» яхты вообще больше похож на игру, чем на пиратскую акцию. До самого конца в описываемом слишком много красивости, подчас претенциозной и даже пошловатой.
Автор не забывает ввести в повествование мотивы, которым надлежит успокоить буржуа, если непокорство и «эмансипированность» героини вызвали у него неприятное чувство. Так, Ардита самоуверенно заявляет, что ей мужчины не лгут, но в конце рассказа выясняется, что увлекший ее сластолюбец не переставал ее обманывать. Кроме того, она уверена, что он подарит ей браслет царицы, но, оказывается, заботливому дядюшке пришлось отобрать или выкупить драгоценность у любовницы нечистоплотного обманщика. И так далее... «Здравое» буржуазное начало празднует в рассказе полное торжество. В произведениях подобного типа Фицджеральд и позже сталкивает экстравагантность «эмансипированных» богатых девиц с добропорядочной буржуазной традиционностью, которая в конце концов побеждает. Нередкие неожиданные концовки, свидетельствующие, что писатель хорошо овладел техникой О. Генри, неизменно служат в таких случаях развлекательным целям и, придавая изящество завершению повествования, утрачивают существенное смысловое содержание. Добавим также, что в рассказах Фицджеральда, предназначенных для популярных журналов, можно найти отголоски мотивов, присущих «коммерческим» произведениям Д. Лондона.
При всей условности анализируемого рассказа, прослеживающейся, заметим кстати, не только в рассмотренных аспектах, он отмечен также приметами времени, которые как бы противятся «облегченности» и косвенно связывают подделку с реальностью. Не останавливаясь на соответствующих мелких деталях, скажем о главном. Ардита Фарнэм капризна, избалована, деньги действительно прикрывают любые ее выходки, но ее «эмансипированность», которая в самом деле может встревожить буржуа, отражает веяния времени. Только после войны, в конце 10-х и начале 20-х годов, появились в Америке подобные характеры. Фицджеральд не просто отметил этот факт, но и разглядел обусловившие его социальные и нравственные сдвиги. В «коммерческий» рассказ все это входит, конечно, лишь очень далеким отзвуком, но все-таки входит. Заметим также, что характер героини — единственный, подробно раскрытый в рассказе.
Некоторая противоречивость заметна и собственно в форме произведения. Мы уже говорили о его художественных погрешностях. Скажем несколько слов и о достоинствах. Повествование в «Прибрежном пирате» очень точно организовано. Рассказ имеет четкую композицию, каждая из шести его частей наделена своим ядром, писатель мастерски использует диалог и несобственно-прямую речь, чтобы обеспечить безостановочное движение действия. Так, в первой части пейзаж и описание внешности героини незамедлительно сменяются большим диалогом, из которого выясняется несовпадение взглядов племянницы и дяди. Диалог длится до самого конца части и перебивается лишь краткими пояснениями («...перебила Ардита иронически...») или сообщениями о конкретных движениях и действиях, оживляющих диалог и придающих описываемому определенную достоверность. В третьей части развитие сюжета требует, чтобы «пират» рассказал свою (вымышленную) историю. Здесь монолог оказался бы слишком большим и не вполне удобным, и автор широко использует несобственно-прямую речь, что дает возможность опустить множество деталей. Та же точность отличает и архитектонику рассказа.
Ритм фразы, ироническое использование лексики неожиданного стилевого ряда, передача движения, как бы укладывающегося в кинокадры, также сообщают многим сценам «зримый» характер. Быстрая смена микроэпизодов или, в зависимости от сущности происходящего, преднамеренное замедление действия и «прикрытие» эмоций незначительными, «внешними» поступками — все выдает в авторе мастера, владеющего избранным жанром. О начальном диалоге Ардиты и дядюшки нужно сказать отдельно. Речь Ардиты отличается от речи ее дяди не только лексически. Дядюшка говорит закругленными плавными фразами, тогда как племянница отвечает короткими отрывистыми репликами. Настроение разговаривающих и даже содержание диалога находит точное отражение в его форме. Манера речи дядюшки сама по себе выдает в нем закоренелого поборника традиционных условностей, принятых в обществе. «Бунтарские» настроения Ардиты проявляются даже в допускаемых ею отступлениях от норм фонетики, и, конечно, речь девушки окрашивают элементы жаргона. В целом диалог оказывается полифункциональным, способствует раскрытию обоих характеров и выражению «сиюминутного» настроения говорящих.
Из рассказов, написанных Фицджеральдом в 1920 г., четыре заслуживают, на наш взгляд, особого внимания. Это «Ледяной дворец», «Хрустальная чаша», «Дэли-римпл идет по дурной дорожке» и «Первое мая». В трех из них явно звучат трагические мотивы, свидетельствующие о том, что за внешним послевоенным благополучием писатель увидел тревожные симптомы. Названные рассказы не лишены художественных недостатков, но прежде всего хочется отметить разнообразие внутрижан-ровых форм и средств, применяемых автором для воплощения серьезной темы.
«Ледяной дворец» повествует о помолвке красивой южанки Салли Кэррол Хэппер, решившей выйти за богатого молодого янки. Салли всей душой привязана к родным местам, она боится Севера, но однообразие и бесперспективность жизни в южном захолустье побуждают ее принять предложение «высокого, широкоплечего, энергичного» Гарри Беллами. Зимой Салли Кэррол едет к жениху, но во время визита чувствует себя не очень уютно. Ее смущают условности, которых семья Беллами неуклонно придерживается. Девушке кажется, что присущая северянам энергия и деловитость скрывают отсутствие теплоты и сердечности, она никак не может ощутить дом Беллами своим. Когда же она заблудилась в построенном к празднику огромном ледяном дворце, пережитое потрясение вызвало непреодолимое желание вернуться на родину, и Салли Кэррол разорвала помолвку.
Сложный эпизод пребывания Салли Кэррол на Севере обрамлен двумя почти идентичными сценами. В них совпадают обстановка, время дня, даже тема и лексика диалога. Показывая в этих сценах ленивый и неторопливый южный быт, Фицджеральд создает насыщенный содержанием контраст, который составляет художественный стержень, основу рассказа, делает понятным психологическое состояние героини. Жизнь на Севере оказалась для нее неприемлемой. Вернувшись домой, она нашла ни на йоту не изменившееся захолустье. Круг замкнулся. К сожалению, автор почти не касается социальных моментов. Намеченная большая тема не получает конкретного выражения, дается расплывчато, и великолепный контраст используется почти исключительно для раскрытия психологического состояния.
Более четкое отображение нравственные и социальные мотивы находят в рассказе «Хрустальная чаша». Этот огромный сосуд подарил героине к свадьбе любивший ее человек, которому она предпочла другого. О мотивах выбора, сделанного красивой Эвелин, можно судить лишь по отдельным намекам. Ухаживавший за ней Карлтон Кэнби, узнав, что она собирается выйти за Пайпера, сказал ей: «Эвелин, я подарю вам на свадьбу одну вещь — такую же бездушную, прекрасную и пустую, как вы!» [12]. Несколькими строчками ниже следует многозначительная фраза: «Гарольд Пайпер, видно, кует деньги». По замыслу автора, хрустальная чаша должна выступать в роли символа. Этим и объясняются ее необычные размеры. В рассказе она является как бы агентом несчастий, сыплющихся на героиню в наказание за бездушие и пустоту. Случайно задев чашу, любовник Эвелин выдает свое присутствие се мужу. Ее дочь поранила палец о ту же чашу, и руку пришлось ампутировать. Другие трагические события, в результате которых вся жизнь героини терпит крушение, тоже так или иначе связаны с этой чашей.
Рассказ хорошо написан, все сцены и диалоги вполне жизненны, но, как справедливо замечает А. Майзенер, выбор хрустальной чаши в качестве символа бездушной роскоши оказывается неудачным [13]. Действительно, внутренней содержательной связи между печальными событиями в жизни героини и преподнесенным ей символическим подарком нет. Слишком многое здесь отдано на волю случая.
Вместе с тем привлекает внимание одна интересная особенность рассказа. Вот его первый абзац: «Был древний каменный век, был новый каменный век, и был бронзовый век, а много лет спустя наступил хрустальный век. В хрустальном веке молодая барышня, убедив молодого человека с длинными, щегольски закрученными усами повести ее к алтарю, затем несколько месяцев писала благодарственные письма за всевозможные подарки из хрусталя: чаши для пунша, полоскательницы, стаканы, рюмки, розетки для мороженого, конфетницы, графины и вазы. Ведь, хотя в девяностых годах хрусталь далеко не был новинкой, именно он доносил ослепительный блеск моды от фешенебельных особняков Бостона до городков Среднего Запада» [14].
Такого рода своеобразное вступление, имеющее, как правило, прямую связь с постановкой и раскрытием основной темы произведения и нередко включающее элемент иронии, становится обычным для новеллистики Фицджеральда существенным художественным средством. Вступление прямо связано с последующим конкретным действием и в то же время отделено от него. Даже в приведенной цитате заметен элемент иронически переосмысливаемого высокого стиля, контрастного стилю собственно сюжетного повествования. Откровенная ирония вступления почти всегда дополняется скрытой иронией сюжета, ситуации. Отметим, кстати, что в рассказах разных лет Фицджеральд не стремится «убрать» автора. Наоборот, его присутствие почти постоянно, и во многих фразах открыто или скрыто звучит авторский комментарий.
Наличие контрастных взаимопроникающих стилистических слоев может служить одним из примеров синтетичности стиля в новеллистике писателя, причем этот термин здесь употребляется в его традиционном значении. Это лишь одна из деталей, подтверждающих самостоятельную ценность новеллистики Фицджеральда.
Есть подобное вступление и в рассказе «Дэлиримпл идет по дурной дорожке», но в целом это произведение совсем другого плана. Характер героя на этот раз изображен в динамике. Случайное уже выступает как проявление закономерного, появляются точные психологические детали. Внутренняя зависимость жизненной позиции Дэлиримпла от происходящих с ним событий обусловливает органическое слияние основной темы с дополнительными, также очень важными. В этом интересном произведении, помимо прочего, раскрываются некоторые особенности трактовки Фицджеральдом проблематики «потерянного поколения». Социальная насыщенность рассказа очевидна.
Отец Дэлиримпла умер, не оставив наследства, когда молодой человек успел закончить лишь два курса местного университета и попасть на фронт первой мировой войны. На родине двадцатитрехлетнего героя ожидала торжественная встреча, описанная, как, впрочем, и его военные подвиги, с откровенной иронией. Собственно действие рассказа начинается с момента, когда гостящий у мэра Дэлиримпл случайно узнает, что хозяин давно уже устал оказывать ему гостеприимство. Необходимость заработать на жизнь приводит героя в подвальное помещение торгового дома, принадлежащего некоему мистеру Мэйси, крупнейшему в городе оптовику.
На фронте Дэлиримпл не задумывался над смыслом событий, и оказанный ему по возвращении прием укрепил в нем сознание собственной значительности. Здесь нет еще существенных мотивов «потерянности», но «печать» войны уже ощущается. После демобилизации молодой человек неожиданно для себя оказался в почти полном социальном вакууме. Начиная работу, он еще твердо верит в справедливость социального устройства. Другими словами, Дэлиримпл убежден, что добросовестный труд на хозяина позволит ему подняться на вершину социальной лестницы. И, конечно, он индивидуалист, привыкший полагаться прежде всего на самого себя. Скоро, однако, ему приходится пересмотреть свои представления. Он сталкивается с протекционизмом и коррупцией, понимает, что никому не нужен, и, чтобы добиться успеха, прибегает к единственно доступному ему средству — начинает грабить сначала прохожих, а потом и дома. Он хочет таким образом собрать значительную сумму и уехать в большой город. Осознание того, что жизнь общества «подобна партизанской войне», помогает Дэлиримплу преодолеть нравственные колебания. Он теперь твердо убежден, что все необходимое для счастья можно купить за деньги.
Композиция рассказа точно отражает каждый этан нравственной трансформации героя. Идет время, множатся преступления, и Дэлиримпл отказывается от мысли считать себя бунтарем, находя более удобным видеть в окружающих — глупцов. Моральное перерождение приходит к логическому концу. Дэлиримпл уже смотрит на мистера Мэйси не с негодованием или ненавистью, а как на проекцию самого себя, как на старшего брата. Развязка назрела, но для героя рассказа (и для читателя) она оказывается совершенно неожиданной, и автор насыщает се иронией. Добросовестная и внешне покорная работа Дэлиримпла принесла свои плоды. Политический босс города, нуждаясь в марионетке с хорошим послужным списком, предлагает герою место в сенате штата и еще более великолепные перспективы, разумеется, при условии, что Дэлиримпл и дальше будет покорным и прилежным. Так проявляется ирония, заключенная в названии рассказа. Весь рассказ как бы переосмысливает стандартную схему «истории преуспеяния», социально-критическая направленность его очевидна, и Фицджеральд не упускает ни одной возможности усилить ее.
Выше отмечалась точность композиции произведения. В отличие от необязательных событий «Хрустальной чаши» здесь во всем действии есть та же неумолимая логическая последовательность, что и в развитии характера героя. Рассказ обладает подлинным художественным единством, которое подчеркивается содержательным параллелизмом. Приведем окончание разговора Дэлиримпла, ищущего работу, с Мейси: «Он продолжал упорно смотреть на Дэлиримпла, пока тот не понял, что беседа окончена, и не поднялся неловко. «Что ж, мистер Мейси, я, конечно, очень вам признателен».— «Не за что. Рад помочь тебе, Брайан». После секундного колебания Дэлиримпл очутился в прихожей. Лоб его покрывала испарина, хотя в комнате не было жарко. «Какого черта я благодарил этого сукина сына?» — пробормотал он» [15].
Так завершается не только беседа, но и целый этап жизни героя. Посещение Мэйси — первое активное действие Дэлиримпла в рассказе. Автор показывает это со всей определенностью. Только в беседе с Мэйси выясняется, что у Дэлиримпла раньше было две возможности получить работу. Становятся понятными и причины, по которым вакансии были отданы другим. Отвечая на вопросы Мэйси, Дэлиримпл сам рассказывает об этом, но соответствующие «живые» сцены не случайно исключаются из повествования. Долгий путь нравственной перестройки, предстоящей герою, начинается именно в конторе Мэйси.
Заканчивается рассказ также многозначительным разговором. Беседа с политическим боссом прерывается приходом Мэйси. Пауза заполнена очень важными мыслями Дэлиримпла. Они отрывочны, так как герой ошарашен полученным предложением, но главная из них состоит в том, что никогда больше угрызения совести не лишат его сна. «Воспитание чувств» завершено. Хотя в сцене теперь участвуют трое, последние строки рассказа фокусируют внимание читателя только на Дэлиримпле и Мэйси: «Мистер Мэйси протянул руку: «Я рад, что в этом деле нам предстоит действовать вместе, всегда был за тебя, особенно в последнее время. Я рад, что мы будем по ту же сторону забора». «Я хочу поблагодарить вас, сэр,— сказал Дэлиримпл просто. Он чувствовал, как непокорная влага собирается в глубине его глаз» [16].
Эпизод первой встречи с Мэйси отделен от заключительного тринадцатью страницами повествования, и прямых текстуальных совпадений в диалогах нет, что делает параллелизм ненавязчивым. Едва ли это случайность. Прибегая к самым разнообразным средствам художественного отображения, Фицджеральд, тем не менее, скрывает свою технику — так усиливается эмоциональное воздействие на читателя и достигается артистическое совершенство.
Художественное единство произведения обеспечивается также точностью портретной характеристики, причем Фицджеральд обнаруживает умение через одну единственную деталь внешности выразить характер персонажа и одновременно свое к нему отношение. Особенное значение имеет в таких случаях красноречивая образность. Диалог строится с уже известным нам мастерством. Хотя рассказ весьма велик, он написан экономно и лаконично. Каждый микроэпизод внутренне оправдан, необходим. Лишь один второстепенный образ (рабочего, с которым Дэлиримпл знакомится, поступив к Мэйси) выписан несколько произвольно, но и этот характер вполне может быть таким, каким его представляет писатель.
Рассказ «Первое мая» в новеллистике Фицджеральда во многих отношениях уникален. Критические оценки этого произведения весьма интересны. «Первое мая», вероятно, самый зрелый из его (Фицджеральда.— Ю. Л.) рассказов» [17],— писал П. Розенфельд в 1925 г. М. Гайс-мар находит, что писателю удалось на шестидесяти страницах сжато отразить драматический характер послевоенного десятилетия [18]. Почти все критики отмечают возросшее мастерство писателя, оригинальную технику рассказа [19]. Г. Д. Пайпер думает, что самыми большими слабостями этого произведения являются мелодраматическая концовка и неубедительность героя [20].
В работах советских исследователей этому рассказу также уделяется значительное внимание. А. Старцев пишет: «Тем, кому хочется представить Фицджеральда писателем, чуждым политике, следовало бы вспомнить, что уже в одном из своих самых ранних (и самых сильных) рассказов — «Первое мая» (1920), Фицджеральд набросал трагическую панораму американской жизни, разорванной социальными и политическими противоречиями. Фактически в этом смело задуманном многоплановом рассказе дана конспективная разработка большого социального романа о современности» [21].
М. О. Мендельсон также отдает рассказу должное, но останавливается и на его слабостях: мелодраматизме истории «превращения Гордона Стеррета, еще недавно самого элегантного студента выпускного курса фешенебельного университета, в беспомощную жертву женщины-«вампа» Джул Хадсон», неточности образов двух простых солдат, которые стали орудием реакции. «Чувствуется,— пишет критик,— что Фицджеральду было трудно представить себе внутренний мир человека из самых низов общества. Для него эти солдаты — едва ли люди, столько брезгливого презрения чувствуется в описании их «переживаний» [22].
«Первое мая» в самом деле не только очень объемистое для рассказа, но и сложное, многоплановое произведение. Хотя действие его проходит в течение одних суток, на пространстве, ограниченном несколькими кварталами Нью-Йорка, писателю удалось представить картину социального антагонизма, развить тему трагизма послевоенного десятилетия и создать ряд убедительных и запоминающихся образов. Получилось широкое полотно, отображающее некоторые существеннейшие стороны действительности. Основная тема раскрывается во многих аспектах. Разнообразные контрасты наполняются значением. Покров внешнего благополучия решительно срывается с неприглядной реальности, предстающей перед читателем в сильных жизненных сценах и эпизодах. Д. Миллер-младший совершенно справедливо, на наш взгляд, подчеркивает тематическое единство произведения. При всей отмеченной критиком свободе сюжетного построения в рассказе создается такая модель действительности, которая позволяет забыть о художественной условности. Рассказ, несмотря на верно отмеченные Г. Д. Пайпером и М. О. Мендельсоном слабости, оставляет впечатление достоверности описываемых в нем событий.
Удача Фицджеральда определяется прежде всего новаторской организацией повествования, но из этого вовсе не следует, что писатель отказывается от использования уже знакомых нам приемов. Конкретному действию, отраженному в одиннадцати частях рассказа, предшествует вступление, часть которого необходимо процитировать: «Никогда еще великий город не был столь великолепен, ибо победоносная война принесла с собой изобилие, и торговцы стекались сюда и с запада и с юга, с чадами своими и домочадцами, дабы вкусить роскошь празднеств... а заодно и купить для своих жен, дочерей и любовниц меха на зиму, и золотые побрякушки, и туфельки — либо из золотой парчи, либо шитые серебром и пестрыми шелками по розовому атласу... День за днем пехота весело маршировала через город, порождая всеобщее ликование, ибо юноши, возвращавшиеся с фронта, были мужественны и чисты, щеки их были розовы и зубы крепки, а молодые девушки, ожидавшие их дома, были пригожи и невинны» (III, 7—8).
В оригинале еще яснее, чем в переводе, звучит приподнятый тон. Многие слова относятся к ряду высокого стиля, образуя даже заметную параллель библейским текстам, что как будто оправдывается значением событий. Большинство предложений построены так, что эмфаза подчеркивается. Вступление на этот раз сложнее, чем в уже рассмотренных случаях. Интонация его резко контрастна чисто бытовому, «приземленному» тону первых же строк сюжетного повествования, и контраст этот имеет определенный смысл, но и внутри самого вступления на всем его протяжении звучит ирония, опровергающая тезис о благополучии и изобилии, пригожести и невинности, чистоте и мужественности, обнажается нравственная несостоятельность торжества, делается зримым несоответствие видимого и сущности. Жены стоят в одном ряду с любовницами, барды и летописцы — с расточителями и купцами, и через все вступление проходит тема торгашества и мишуры, намечающая истинную оценку результатов победы.
Очевидная содержательная связь вступления с конкретным действием обнаруживается на этот раз и в показательных частностях. Так, мотив закупок находит развитие в нескольких сюжетных эпизодах, например, когда рассказывается, как богатый Филип Дин покупает галстуки. Тема изобилия по-новому осмысливается в ряде сцен. Примером может служить эпизод, рассказывающий, как Гордон Стеррет разглядывает роскошные рубашки того же Дина. Эпизод, в котором внимание читателя привлекается к чулкам богатой Эдит Брейдин, также непосредственно связан с мотивами вступления. Все эти «живые» сцены в результате обретают существенную полифункцнональность. Через весь рассказ проходит контрастное, социально окрашенное сопоставление богатства и бедности. Таким образом, вступление и собственно раскрытие сюжета связываются многими нитями.
Действие рассказа начинается утром первого мая 1919 г., когда Гордон приходит в отель «Билтмор» попросить своего ближайшего университетского друга Филипа Дина о займе. Деньги нужны ему, чтобы откупиться от Джул Хадсон. Естественность дальнейших событий обусловливается организацией повествования, в котором выделяются основные отправные моменты.
Эпизод встречи Стеррета с Дином сложен и поэтому разбит на две отдельные части. Это определяется не только временем и местом действия, но и существенным содержанием. Единство эпизода и его расчлененность обусловливаются психологически. Дин, в полном соответствии со своим характером, не хочет одолжить просимые триста долларов, но не может сразу отказать и ожидает подходящего момента. Стеррет и Дин, встретившись в девять часов утра, расстаются около шести вечера, причем подразумевается, что они будут на балу выпускников университета в ресторане «Дельмонико», куда Стеррета привлекает желание увидеться с Эдит Брейдин, девушкой, за которой он ухаживал в студенческие годы. На несколько часов (до начала бала) линия Стеррета и Дина прерывается: Дин готовится к балу, и его визит к парикмахеру и туалет не представляют интереса, а о Стеррете читатель уже знает достаточно, чтобы с уверенностью предположить, что он попытается подкрепить себя спиртным, истратив малую толику из одолженных ему в конце концов восьмидесяти долларов.
Паузу в действии Фицджеральд использует, вводя новых персонажей и существенно расширяя социальный фон произведения. Кэррол Кэй и Гэс Роуз, неграмотные, забитые солдаты, тоже приходят в ресторан «Дельмонико», чтобы раздобыть спиртное у брата Кэя, работающего там официантом. По дороге они попадают на уличный митинг (вспомним, что действие происходит первого мая), собираются вместе с толпой бить социалистов.
Все действие рассказа рассчитано почти по минутам. «Первого мая 1919 года в девять часов утра...» (III, 8) — так начинается первая часть. Слова «Был полдень» (III, 15) открывают вторую. «В половине шестого они вышли от «Братьев Риверс»...» (III, 17) — предупреждает писатель о предстоящем через несколько минут расставании Стеррета и Дина. «В тот же вечер около девяти часов...» (III, 18) — читаем в начале третьей части, и еще не раз Фицджеральд акцентирует внимание на часе того или иного эпизода. «Плотность» времени очень существенна в рассказе. Линии, исходящие из «отправных пунктов», естественно пересекаются во времени и пространстве, создавая широкую целостную картину, вовлекающую многие судьбы и целую серию трагических происшествий. Это дает возможность органически сочетать историю Стеррета с картиной митинга, сценой слепого неистовства толпы, эпизодом разгрома социалистической редакции. Перечисленные сцены контрастируют с картиной бала у «Дельмонико». Линия Стеррета как бы пронизывает все действие, раскрывается на сложном фоне, отражающем многообразное единство трагической в своей сущности действительности.
Действие все убыстряется. С увеличением числа персонажей возрастает и количество сменяющих друг друга микроэпизодов. Естественность, с которой они вводятся, скрывает тщательность их отбора, обусловливающую содержательное значение каждого из них, и кажется, читатель видит все происходящее. С нарастанием темпа действия все более усиливается основной контраст, причем расширяется его социальное содержание. Начало сюжетного повествования и финальные сцены рассказа совсем не схожи, тем не менее они как бы стягивают все разнообразные эпизоды, составляющие содержание произведения. Десятая часть заканчивается сценой в лифте, в котором поднимаются разгулявшиеся Филип Дин и Питер Химмель. В угаре пьяного веселья они похитили в ресторане таблички «Вход», «Выход» и украсили себя ими. Превосходный перевод точно передает отрывочный, быстрый, психологически оправданный темп диалога: « — Простите, какой вам нужен этаж? — спросил их лифтер.
— Любой,— сказал мистер Вход.
— Самый верхний,— сказал мистер Выход.
— Это верхний этаж,— сказал лифтер.
— Пусть прибавят еще один,— сказал мистер Выход.
— Нам надо выше,— сказал мистер Вход.
— На небо,— сказал мистер Выход» (III, 62).
Заключительная, одиннадцатая, часть рассказа, повествующая о самоубийстве Стеррета, занимает полстраницы. Ее подчеркнуто бытовая тональность, отчетливо отраженная в синтаксисе фразы, не только составляет резкий контраст интонации предшествующего ей приведенного диалога, но прямо перекликается с тональностью начала первой части. Точная организация повествования получает адекватное завершение.
Структурное единство рассказа находит параллель в тонко намеченном психологическом единстве, характеризующем действующих лиц одного и того же социального слоя. Рассмотрим лишь один пример мастерски используемого Фицджеральдом психологического лейтмотива.
Когда Стеррет приходит к Дину, тот не сразу замечает состояние друга и радостно приветствует его. Дин в восторге от встречи и, скрываясь в ванной, еще полон энтузиазма. Естественная пауза, во время которой Стеррет рассматривает роскошные рубашки Дина и сравнивает их с собственной ветхой сорочкой, насыщена многообразным содержанием. В частности, без слов становится ясно, насколько Дин поглощен собой. Даже вернувшись в комнату, он, в сущности, не видит Стеррета, не смотрит на друга, а лишь на самого себя, любуется собой (то, что он вертится перед зеркалом, конечно, совершенно естественно), продолжая еще некоторое время излучать радушие. Однако, как только он узнает, что дела Стеррета плохи, тон его меняется, и, начиная с этого момента, эгоизм Дина проявляется все отчетливей и наглядней.
Эдит Брейдин сначала тоже радуется встрече с Гордоном. Фицджеральд не забывает объяснить психологическое состояние девушки, показывает, почему именно в данный момент эта встреча ей особенно приятна. Подобно Дину, она не сразу отдает себе отчет в перемене, происшедшей с бывшим поклонником, хотя с женской наблюдательностью подмечает кое-какие тревожные симптомы. Ей кажется, что она его любит. Постепенно ситуация делается ей ясной, и, конечно, тон девушки немедленно меняется. Она, как видно из пространного (но без нарушения естественности) диалога, помогла бы ему, если бы только это не было так трудно. «Любовь» исчезает буквально на глазах. Все же чувство и триста долларов слишком разные вещи, и Эдит утешает себя, вовсе не думая о Стеррете. Так обнаруживается общность психологии Филипа Дина и Эдит Брейдин, общность, социальная основа которой наглядно обнажается в рассказе.
Мы так подробно остановились на этом замечательном произведении, потому что оно, на наш взгляд, не просто отражает очередной этап разработки внутрижанровых форм, а неоспоримо свидетельствует о творческой зрелости Фицджеральда-новеллиста, уже в 1920 г. внесшего значительный вклад в сокровищницу американского рассказа.
Овладев мастерством новеллиста, писатель и в последующие годы продолжает осваивать различные виды жанра, причем делает это на высоком профессиональном уровне, одновременно расширяя диапазон художественных средств. Наиболее характерны в этом плане два произведения. Оба относятся к 1922 г., обоим уделила внимание критика, но если рассказ «Алмазная гора» получил признание и верную оценку, то «Забавный случай с Бенджамином Баттоном» остался, по нашему мнению, недооцененным. М. Каули даже не включил его в упоминавшийся сборник 1951 г. Чтобы получить представление о разнообразии форм, в немалой мере определяющем богатство новеллистики Фицджеральда, эти два рассказа необходимо кратко рассмотреть.
«Алмазная гора» представляет собой сатирическую притчу, заставляющую вспомнить некоторые произведения М. Твена, но отмечена совершенно оригинальными чертами. Фицджеральд не только нашел адекватный символ безнравственного богатства, но и выразительное средство сатирического отображения действительности. В результате — откровенно неправдоподобная ситуация, гротеск, явная условность, невероятное и чудовищное укладываются в рамки обыденного, и сатира обретает убедительность, а действующие лица наделяются психологией людей, которых нетрудно встретить в обществе. Богатство в «Алмазной горе» выступает как сила не только безнравственная, но и преступная. Уже в этом рассказе тема денег разрабатывается писателем много-планово. Джон Т. Ангер, молодой человек из буржуазной семьи среднего достатка, в колледже знакомится с Перси Вашингтоном, изящным, несколько замкнутым и явно очень богатым юношей. На лето Перси приглашает Джона к себе, в роскошный дворец, расположившийся у высокой алмазной горы. Выясняется, что дед Перси, потомок Джорджа Вашингтона, случайно обнаружил это небывалое месторождение и, совершив серию преступлений, добился исключения пяти квадратных миль территории США из всех географических карт. Семью Брэддока Вашингтона, отца Перси, обслуживают двести негров, так и не узнавших об отмене рабства. Вашингтоны, которые не платят налогов, боятся лишь обнаружения с воздуха. Джон знакомится с Кисминой и Жасминой, сестрами Перси, и незамедлительно влюбляется в Кисмину. Идиллия нарушается, когда он узнает, что ради сохранения тайны гостей принято в конце лета убивать. Юношу спасает воздушный налет. Став свидетелем крушения Вашингтонов, Джон бежит с сестрами Перси.
Условно-символический характер рассказа намечается с первых же строк. Семья героя проживает в городе под названием Геенна. Колледж носит имя святого Мидаса. Перед отъездом Джона отец презентует ему асбестовый бумажник. По дороге в поместье Вашингтона Джон и Перси проезжают деревушку Саваоф, в которой проживают всего двенадцать человек. Все они мужчины, и совершенно ясно, что, рассказывая об этих «двенадцати темных и загадочных душах» (III, 142), автор намекает на евангельских апостолов. Этот ряд можно было бы продолжить. Сатирическая тенденция неприкрыто выступает во множестве деталей. Когда, например, Джон и Перси сходят с поезда в Саваофе, им приходится добираться до роскошного автомобиля в обычной телеге, и Перси приносит по этому поводу свои извинения: «Жаль, что пришлось тебя слегка потрясти, но сам понимаешь — куда ж с таким автомобилем на глаза пассажирам или этому разнесчастному саваофскому отребью» (III, 143). Цепь символов евангельского происхождения проходит до самой развязки. В своем поместье Брэддок Вашингтон стоит как бы вне морали, и только катастрофа вынуждает его признать наличие высшей силы. Сатира Фицджеральда достигает апогея в сцене, когда отец Перси совершенно серьезно предлагает огромную взятку самому богу, обращаясь к нему, как к дельцу. Богатство как бы ставит Брэддока Вашингтона в собственных глазах на один уровень с всевышним, о чем свидетельствует тон чудовищного предложения.
Неизмеримое богатство обусловливает психологию всех членов семьи. Они с презрением смотрят на остальной мир, естественные нормы морали им абсолютно чужды. Кисмина, например, неравнодушна к Джону, но, проболтавшись об ожидающей его участи, жалеет лишь о том, что неосторожно испортила последние дни пребывания вместе. Когда все негры гибнут под бомбами, она возмущается: «Рабов там — на пятьдесят тысяч долларов!...— И это еще по довоенным ценам. Американцы вообще такие — ни малейшего уважения к собственности» (III, 168).
Фицджеральд постоянно показывает нравственно-психологическое отличие богатых людей от остального человечества. В одной из бесед Джона с Кисминой эта тема ставится прямо. «Ваш отец считает, что вы особенные»,— заметил Джон. «Мы и есть особенные,— отвечала она, и глаза ее гордо сверкнули.— Нас никогда не наказывали. Папа сказал, что нас нельзя наказывать. Однажды моя сестра Жасмина, когда была еще маленькая, столкнула его с лестницы — и он встал, захромал и пошел» (III, 154).
Писатель показывает, что богатство порождает психологию бесчеловечности. Воспитанный в буржуазной Геенне, Джон наивно признается: «Я как раз люблю очень богатых» (III, 141), и в гостях у Вашингтонов он легко воспринимает их отношение к миру, пока, разумеется, сам не становится жертвой. Именно это делает такой смешной вспышку негодования героя, когда Кисмина проговаривается. Автор неуклонно следит за тем, чтобы не только внешние атрибуты, но и психология действующих лиц освещались как бы двойным светом.
Дискредитируется в необходимой степени и тезис об «особенности» Вашингтонов. Так, стереотипность и пошлость стандартного буржуазного мышления отражается, например, в следующей выразительной детали. На протяжении первых двух лет пребывания в колледже Джон часто гостит у богатых однокашников и «по молодости лет» удивляется «поразительной неразличимости» их отцов: «Когда он говорил, откуда он, они неизменно шутили: «Ну и как у вас там, припекает?» — а Джон по мере сил улыбался и отвечал: «Да, не без того». Он бы, может, и сказал что-нибудь подходящее, но уж очень они все одинаково шутили, разве что кто-нибудь спрашивал иначе: «Ну и как вам там, не холодно?»— отчего у него опять-таки с души воротило» (III, 140). Вот как заканчивается описание первого вечера Джона у Вашингтонов: «Сквозь дрему он пытался ответить на чей-то вопрос — но липучая медвяная нега была поволокой сна: камни, ткани, вина, золото, все расплывалось у него в глазах сладостным туманом... «Да,— отозвался он из последних сил,— да, там у нас, конечно, припекает» (III, 147). Рассказанная Фицджеральдом сатирическая притча, при всей условности, представляется точным слепком бесчеловечной, пошлой и обыденной буржуазности.
Сходный художественный принцип использован и в рассказе «Забавный случай с Бенджамином Баттоном», но форма этого произведения имеет существенные отличия. Критика далеко не всегда правильно улавливает его основной акцент. Так, К. Кросс считает, что Фицджеральд в нем прежде всего «искусно подчеркивает желанность юности и неумолимое движение времени» [23]. Действительно, тема преимуществ молодого возраста обычна для писателя, в его творчестве разных лет раскрываются многие ее аспекты, но в рассказе о Бенджамине Баттоне она, нам кажется, вовсе не является центральной. Как справедливо указывает К. Эбл, идею произведения Фицджеральду подало скорее всего шутливое замечание М. Твена, высказавшего как-то сожаление, что лучшая часть жизни в ее начале, а худшая в конце [24]. Тем не менее анализируемый рассказ находит параллель в творчестве совсем другого писателя.
В 1899 г. Герберт Уэллс опубликовал фантастический рассказ «Чудотворец». Герой его, Джордж Макуиртер Фодерингей, служивший клерком в конторе, неожиданно для окружающих и самого себя обнаруживает удивительную способность творить чудеса: любое его желание немедленно претворяется в действительность. Обретя неограниченные возможности, Фодерингей не знает, как их применить, и невольно становится причиной целой серии неприятных происшествий, завершающихся космической катастрофой. Случайно уцелев, напуганный Фодерингей желает, чтобы все стало, как было до начала его чудес, а сам он лишился опасного дара. В рассказе разрабатывается одна из важных тем Уэллса, не раз использовавшего подобные коллизии для критики банального мещанского мышления. У английского писателя проявление колоссальных возможностей человека часто вступает в противоречие с косным окружением.
Против мещанского мышления, особенно характерного для провинциальной буржуазной среды, направлен и рассказ Фицджеральда, но тема скрытых возможностей человека в нем не затрагивается. Элемент необычного, опрокидывающий стандартные представления, выступает у Фицджеральда как бы пассивно, но коль скоро необычное случилось, оно ярко оттеняет пошлость быта и нравов. Коллизия возникает в результате того, что Бенджамин Баттон появляется на свет семидесятилетним и проживает свою жизнь «наоборот», молодея с каждым годом. Авторская ирония пронизывает все повествование. Фицджеральд тщательно выдерживает «прозаический» тон. В сущности, если исключить один невероятный факт, все в рассказе полностью соответствует реальности. Детали быта, нравственные и психологические характеристики правдоподобны и убедительны. Писатель как бы задался целью проверить, что произошло бы, если бы в почтенном буржуазном семействе действительно родился семидесятилетний старец. Художественная основа рассказа вновь обусловлена подчеркнуто «приземленной» трактовкой из ряда вон выходящего события.
Иронические ноты ощущаются уже во вступлении, но становятся особенно заметными, когда автор переходит к характеристике Баттонов («button» означает «пуговица»): «Перед войной супруги Баттоны занимали в Балтиморе завидное положение и процветали. Они были в родстве с Этим Семейством и с Тем Семейством, что, как известно каждому южанину, приобщало их к многочисленной аристократии, которой изобиловала Конфедерация. Они впервые решились отдать дань очаровательной старой традиции — обзавестись ребенком, и мистер Баттон, вполне естественно, нервничал. Он надеялся, что родится мальчик и он сможет определить его в Йель-ский колледж, штат Коннектикут, где сам мистер Баттон целых четыре года был известен под недвусмысленным прозвищем «Петух» [25].
«Общая» ирония в адрес южной аристократии, известной строгим соблюдением традиций и условностей, дополняется ироническим изложением конкретных надежд Баттона, а в целом приведенный абзац готовит и обусловливает сатирический эффект. Только общественное мнение и беспокоит врача, сестру, самого Баттона Узнав о крушении своих надежд, столкнувшись с общим мнением, которое и сам разделяет, Баттон приходит в ярость и, вопреки рассудку, пытается сделать вид, что ничего особенного не случилось. С тупым упорством он покупает сыну детскую одежду и игрушки, настаивает на том, чтобы Бенджамин вел себя, как «полагается» младенцу. Писатель использует предоставленные ситуацией возможности, чтобы подчеркнуть убожество социальных условностей и стандартного мышления. Вот лишь один пример. Женившись, Бенджамин продолжает молодеть, тогда как его жена, естественно, стареет. Это вызывает с се стороны характерное возражение: «Ты попросту упрямишься. Ты решил быть оригинальным, был им всю жизнь и таким останешься. Но вообрази, на что это было бы похоже, если бы каждый смотрел на вещи так, как ты,— во что превратился бы мир?» [26]. Ироническая тональность сменяется лирической лишь в самом конце рассказа, при описании последних дней жизни младенца. Социально-критическая тенденция рассказа не вызывает сомнений.
Сложность новеллистики Фицджеральда обнаруживается уже на раннем этапе его творчества. Разрабатывая обычную для него социальную проблематику в жанре рассказа, писатель в каждом отдельном случае стремится найти форму и художественные средства, позволяющие раскрыть тему с максимальной убедительностью.
В рассмотренных рассказах видим точность психологической характеристики персонажей, строгую мотивированность их душевного состояния и настроения в каждый данный момент действия. Тем не менее вряд ли можно утверждать, что глубокий психологизм является принципиальной определяющей чертой в этот, первый период новеллистического творчества писателя. Хотя тенденция к углублению психологизма намечается довольно рано и становится вполне ощутимой уже в некоторых рассказах 1920 г., полное и адекватное воплощение она находит лишь со времени написания рассказа «Молодой богач» (1926), открывающего в новеллистике Фицджеральда второй значительный период.
Сказанное не означает, что после 1926 г. писатель прекращает поиск новых внутрижанровых форм и художественных средств, но с этого времени главной отличительной чертой рассказов становится более глубокое проникновение в сущность явлений жизни, и в частности углубленный психологизм, тогда как развитие его ранней новеллистики идет как бы вширь, а не вглубь. Заметной чертой второго периода является также изменение общей тональности рассказов, существенное усиление мотивов трагизма. В этом отношении развитие новеллистики Фицджеральда идет почти параллельно развитию его романного творчества.
Разумеется, предложенная схема, как, впрочем, и всякая другая, в какой-то мере условна, но наличие таких этапных произведений, как «Первое мая» и «Молодой богач», вероятно, позволяет с достаточной степенью точности определить соответственно начало зрелого новеллистического творчества Фицджеральда и периодизацию его новеллистики. Этапные произведения рассматриваются не изолированно, а в контексте, подтверждающем, по нашему мнению, справедливость предлагаемого разграничения. Едва ли можно отрицать, что анализированные выше рассказы отражают широту и разнообразие внутрижанровых форм. В то же время тенденция к углублению социального анализа и психологизма, к изменению общей тональности выявляется уже в двух интересных новеллах, как бы обозначающих переход к новому периоду. Рассматривая их, мы не останавливаемся ни на их композиции, ни на их художественных особенностях, потому что нас интересуют прежде всего характеры центральных персонажей и особенности раскрытия их психологии.
Первая из них — «Зимние мечты» — была написана в 1922 г. Ее герою Декстеру Грину в начале действия только тринадцать лет. Его семья не нуждается, но Декстер подрабатывает на карманные расходы в гольф-клубе, где выполняет функции кэдди, то есть носит клюшки и отыскивает затерявшиеся мячи. Декстер — честолюбивый подросток, он мечтает об успехе, о славе. Когда же он знакомится с очаровательной, капризной и избалованной Джуди Джонс, мечты его обретают конкретный характер. Идет время, Джуди оказывается непостоянной. Ради нее он рвет помолвку с Айрин Ширер, которая, впрочем, не слишком горюет. Декстер наделён очень привлекательными чертами. Вот как автор описывает его состояние в момент, когда у него с Джуди «все кончилось»: «Декстер был в глубине души реалист. Ему было все равно, как отнесся к его поступку (разрыву с Айрин.— Ю. Л.) город,—не потому, что он собирается отсюда уезжать, а потому, что посторонние могли судить о нем лишь поверхностно. Мнение общества его ничуть не интересовало. Когда же он понял, что не в его силах ни затронуть сердце Джуди Джонс, ни удержать ее, он не стал ее винить. Он любит ее и будет любить, пока не состарится, но она не для него. И он изведал высшее страдание, которое дается только сильным, как раньше изведал, хоть и на короткий миг, высшее счастье» (III, 135).
Характер Декстера сложен. Будучи «реалистом», герой трезво оценивает ситуацию, делает необходимые выводы, не впадает в отчаяние, и когда читатель узнает, что он преуспел, «да так, что теперь для него не было ничего недоступного» (III, 136), это не вызывает удивления, воспринимается как результат естественного развития событий. Но в душе Декстера живет романтическая мечта, освещающая и согревающая изнутри его жизнь. В Джуди Джонс он видит воплощение всего прекрасного, и ему необходимо, чтобы это прекрасное существовало в мире. Пусть Джуди не любит его, пусть изменяет ему — важно, чтобы она не изменила себе.
Душевный кризис наступает, когда Декстер узнает, что мечта его обманула. Замужество Джуди не потрясает его. Потрясает известие, что Джуди превратилась в обычную женщину, которую даже жалеют. Она утратила присущую ей прежде яркость, красоту, все, что делало ее Мечтой. Джуди стала заурядной, Декстера «добивают» слова случайного посетителя: «Нашим дамам она почти всем нравится» (III, 138). «Мечтать было не о чем», и тридцатидвухлетний Декстер впервые в жизни ощутил не горе даже, а пустоту. Осталась лишь прозаическая обыденность. Умерла часть души героя, и Декстер плачет о себе, потому что «в мире не осталось иной красоты, кроме серой красоты стали, над которой не властно время» (III, 138). Раскрывая в живых сценах психологию героя, Фицджеральд тонко противопоставляет внешний успех духовной полноте жизни.
О крушении мечты повествует и рассказ «Самое разумное» (1924), в нем социальная тема выражена ясней, а психологический рисунок отмечен большей сложностью. Легко представить себе, что тремя-четырьмя годами раньше тот же сюжет был бы разработан автором иначе. Раскрытие психологии героев рассказа как бы взрывает изнутри привычную схему «истории преуспеяния».
Джордж О'Келли, способный инженер, мечтающий «изменять течение рек и очертания гор и дарить жизнь бесплодным и мертвым уголкам земли» (III, 177), вынужден за сорок долларов в неделю служить в страховой компании. Смущает его не бедность, а неуверенность в любимой. Он то и дело выпрашивает отпуск, чтобы навестить ее и укрепить ее надежды. Джонкуил Кэри устала ждать и не соглашается выйти за Джорджа, пока он беден. Когда, встревоженный очередным ее письмом, он снова просит об отпуске, его увольняют. Встретившись с любимой, Джордж четко обрисовывает ситуацию: «Если бы ты решилась, вышла за меня, поехала со мной, я бы всего добился, но не сейчас, когда в мыслях у меня только одно: как ты здесь без меня» (III, 182). Но Джонкуил уже решила, что «самое разумное» — порвать с любимым. Трезвый расчет она ставит выше чувства.
Год спустя он вновь попадает в городок, где живет Джонкуил. Он преуспел, возмужал, перед ним открываются широкие перспективы. Вот он появляется в доме Кэри: «Оказывается, это просто-напросто комната, а не заколдованный чертог, где он провел незабываемые часы. Он сел в кресло и удивился, что это просто-напросто кресло, а потом понял, что только его воображение в те прежние времена смещало пропорции, расцвечивало будничные предметы» (III, 186). Джоикуил не вышла замуж, никого не полюбила. Из пространной, насыщенной психологическими нюансами сцены выясняется, что герой по-новому воспринимает не только внешнюю обстановку. Джонкуил первая делает шаг к сближению, и Джордж, все еще любящий ее, отвечает, хотя чувствует, что внутренний сдвиг произошел.
Приведем выразительную «счастливую» концовку рассказа: «...целуя ее, он на миг осознал, что тон весны ему не вернуть, сколько ни ищи, хоть целую вечность. И пусть теперь он имеет право прижать се к себе с такою силой, что мускулы надуваются на руках,— она его желанная и драгоценная добыча, он ее завоевал,—но не будет неуловимого шепота в сумерках, шепота в ночи.. "Что ж,— сказал он себе,— ничего не поделаешь. Прошла весна, прошла. Какой только любви не бывает в жизни, но нельзя два раза любить одинаково"» (III, 190).
Противительная интонация в концовке точно выражает сущность случившегося. Бедность стала между героем и его возлюбленной. Когда же препятствие исчезло и цель была достигнута, цена оказалась слишком дорогой. У героев «масса времени — его жизнь и ее» (III, 190), но все это не может восполнить утрату.
В первой половине 20-х годов Фицджеральд создал несколько рассказов, центральными персонажами которых являются совсем молодые девушки и юноши, а главной темой — изменение общественных нравов непосредственно после мировой войны. Характерным примером может служить новелла «Волосы Вероники» (1920). Много позже писатель в серии рассказов возвращается к 10-му — началу 20-х годов, создает новые запоминающиеся образы. Знаменательно, что углубление психологизма в новеллистике Фицджеральда со второй половины 20-х годов происходит, как правило, параллельно и в связи с глубоким раскрытием серьезной социальной темы.
С первых строк рассказа «Молодой богач» заметно его сходство со многими более ранними образцами новеллистики Фицджеральда, но не менее очевидны и очень существенные отличия. Рассказ начинается вступлением. Оно, как прежде, непосредственно связано с сюжетным повествованием, сообщает даже имя героя, но напрасно стали бы мы отыскивать в этой вводной части ставшие уже привычными ноты иронии. Их нет, и весь суховато-аналитический тон вступления предопределяет тональность дальнейшего повествования и его художественные особенности. Вступление четко выражает авторскую установку на раскрытие психологии героя и выявление соответствующей, в том числе и социальной, мотивации, Объективно-безличное изложение на этот раз невозможно, потому что рассказчик должен быть посвящен в подробности душевных движений героя, должен выступать в роли аналитика, и автор, ведя повествование от собственного лица, подчеркивает свое «присутствие», сообщает, что был другом Энсона Хантера. В дальнейшем осведомленность рассказчика постоянно тщательно мотивируется. Наконец, в самой структуре вступления, состоящего из трех абзацев, прослеживается непростая связь общего и конкретного.
Вступление открывается афористической формулировкой эстетического принципа: «Начните с отдельной личности, и, право же, вы сами не заметите, как создадите типический образ; начните с типического образа, и, право же, вы не создадите ничего — ровным счетом» (III, 203). М. Коренева пишет: «В соответствии с этим эстетическим кредо Фицджеральд рисует образ Энсона не в обобщенно-условной манере, в которой решались образы персонажей «Алмаза», а в сугубо реалистической, предполагающей полноту характеристики личности» [27]. Это совершенно справедливо, но отнюдь не исчерпывает вопроса. В «Алмазной горе» писатель дал не просто обобщенно-условную, но сатирическую картину, а сатира имеет собственные законы. Во вступлении к рассказу «Молодой богач» речь идет о соотношении между частным и общим. Сатирический момент отсутствует, но писатель, давая установку на анализ характера конкретной личности, вовсе не исключает обобщения, и слова «типический образ» получают развернутую трактовку в том же вступлении.
Второй абзац рассказа, вводящий автора-повествователя и объясняющий его осведомленность, является как бы переходным, а третий прямо связывает общее и конкретное. Приведем его в несколько сокращенном виде: «Позвольте мне рассказать об очень богатых людях. Они не похожи на нас с вами. С самого детства они владеют и пользуются всяческими благами, а это не проходит даром, и потому они безвольны в тех случаях, когда мы тверды, и циничны, когда мы доверчивы, так что человеку, который не родился в богатой семье, очень трудно это понять. В глубине души они считают себя лучше нас, оттого что мы вынуждены собственными силами добиваться справедливости и спасенья от жизненных невзгод... Единственная возможность для меня описать молодого Энсона Хантера — это рассматривать его так, будто он иностранец, и твердо стоять на своем» (III, 204).
Так раскрывается смысл афоризма, начинающего рассказ. Но тут есть и существенный момент, отмеченный А. Старцевым: «Фицджеральд не только не склонен здесь к взгляду, что американские миллионеры — это те же американцы, только богатые... Он считает их замкнутой группой внутри нации, настолько привилегированной, кастово солидарной и чуждой народу, что постоянно сравнивает их с феодальной верхушкой в средневековой Европе» [28]. Совершенно ясно, что, рассказывая об Энсоне Хантере, писатель как раз имеет в виду широкое социальное обобщение.
В оценке клана богатых во вступлении нетрудно заметить сходство с характеристикой, которую Хемингуэй дает герою одного из лучших своих рассказов «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»: «Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она (жена.— Ю. Л.) его не бросит. Что другое — а это действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир...» [29]. «Макомбер» был написан в 1936 г. Здесь нет нужды сравнивать рассказы обоих писателей, заметим только: Макомбер не похож «на нас с вами». Фицджеральд за десять лет до Хемингуэя подметил эту особенность очень богатых людей и показал, что богатство, с детства окружающее человека, лежит в основе постулированного отличия.
Вступление в рассказе «Молодой богач» как бы вводит читателя в атмосферу исследования, задает суховатый тон рассказу, подчас наводящий на мысль о научном отчете. «Энсон был старшим из шестерых детей, которым предстояло разделить между собой состояние в пятнадцать миллионов долларов...» (III, 204)— так Фицджеральд начинает сюжетное повествование, и до самого окончания второй части (всего в рассказе их восемь) нет ни одного диалога, ни одной «живой» сцены. Идет как бы конспективное изложение вводных данных, причем в каждом абзаце акцентируется какой-то существенный факт. Так, второй абзац второй части начинается сугубо информативно: «Летом всех шестерых детей увозили из особняка на Семьдесят первой улице в большую усадьбу на севере штата Коннектикут...» (III, 204). Далее следует столь же «деловое» объяснение выбора места и связанная с этим характеристика отца Энсона, а в конце абзаца автор-повествователь на собственном примере, но с той же сухой информативностью иллюстрирует тезис о непохожести очень богатых «на нас с вами».
Такой способ представления «материала» имеет у Фицджеральда одну немаловажную особенность. Проявляя интерес прежде всего к психологии героя, писатель все время очень точно фиксирует основополагающие моменты. Так, третий абзац той же второй части сообщает: «Впервые Энсон осознал свое превосходство, когда заметил ту угодливость, проникнутую скрытой неприязнью, какую проявляли к нему жители этого глухого уголка Коннектикута» (III, 205). Конечно, такое сообщение выглядит слишком общим, и Фицджеральд, не изменяя принятой манере, дает примеры, показывая, как «естественная» ситуация отражается на психологии Энсона: «Родители мальчишек, с которыми он играл, всегда справлялись о здоровье его родителей и втайне радовались, когда их детей приглашали к Хантерам в гости. Он считал, что все это в порядке вещей, и недовольство всяким обществом, где он не первенствовал — если это касалось денег, положения, власти,— было свойственно ему до конца жизни» (III, 205).
Намеченная манера изложения прослеживается до самого конца повествования. Диалоги и «живые» сцены появляются почти исключительно в тех случаях, когда «информативный» стиль оказывается неудобным, либо в эпизодах, отражающих этапные для душевной жизни героя моменты, то есть когда необходимо не просто охарактеризовать, а раскрыть и показать его состояние, конкретное проявление присущей ему психологии, либо, наконец, когда того требует собственно развитие сюжета. В третьей части есть, например, эпизод, рисующий появление напившегося Энсона в отеле, где остановилась любимая им (и тоже богатая) Паула Леджендр. Пока Паула одевается, Энсона занимает ее двоюродная сестра, «девушка суровая и озлобленная, которая любила Паулу, но относилась к ее многообещающей помолвке не без зависти» (III, 208). Когда Энсон и Паула уходят, эта девушка сообщает миссис Леджендр, что Энсон был пьян. Сообщение это облечено в форму диалога, потому что невозможно просто написать «донесла», «наябедничала» или что-нибудь в этом роде. Донос осуществляется весьма тонко, а кроме того, в диалоге раскрываются некоторые нюансы, и в первую очередь — известная из «информативной справки» характеристика девушки. Разбивающие сухое повествование диалоги и сцены полифункциональны. Они, помимо прочего, как бы отбрасывают на него свой «живой» свет, придают рассказу достоверность и убедительность.
При всей замечательной композиционной точности произведения, писатель едва ли смог бы показать даже самые существенные моменты жизни героя, развития и проявления его психологии в «живых» сценах, не превратив рассказ в роман или хотя бы повесть. В «Молодом богаче» в самом деле сконцентрирован материал, вполне достаточный для романа. «Плотность» рассказа — одно из его важнейших художественных достоинств, но необычная для прежней новеллистики Фицджеральда повествовательная манера обусловлена не только необходимостью исследовать психологию Энсона на протяжении его сознательной жизни (от семилетнего до тридцатилетнего возраста). Сухость повествования имеет параллель в самой психологии героя! Наделенный многими привлекательными чертами, обаятельный, преуспевающий на Уолл-стрит Энсон сам как бы засыхает, превращается в страшную, мертвящую силу. Порожденное богатством чувство превосходства, той самой «непохожести на нас с вами» опустошает его душу, лишает его жизнь тепла, превращает в нравственного калеку.
В третьем абзаце сюжетного повествования автор сообщает, как и когда это ощущение превосходства поселилось в душе героя. Тридцатью шестью страницами ниже последние строки рассказа замыкают круг: «Думается мне, он бывал счастлив, только когда какая-нибудь женщина в него влюблялась, тянулась к нему, как железные опилки к магниту, помогая ему проявить себя, что-то ему суля. Не знаю, что именно. Быть может, это сулило ему, что на свете всегда будут женщины, готовые пожертвовать самой светлой, самой свежей и чудесной порой своей жизни, лишь бы охранить и уберечь то чувство превосходства, которое он лелеял в душе» (III, 243). Рассказ заканчивается, потому что душевная жизнь героя, его психологическое развитие. прекращаются. Сколько бы еще Энсон ни прожил, ничего внутренне нового с ним произойти не может.
На протяжении всего повествования нет и следа прямой авторской иронии. Зато есть ирония ситуации, подчеркивающая опустошенность жизни Энсона. Это — горькая ирония, и она, между прочим, опровергает мнение некоторых критиков, будто рассказ отражает сложное отношение писателя к очень богатым людям, включающее, наряду с недоверием и интересом к их психологии, элемент восхищения [30]. Необходимо кратко остановиться на некоторых важных эпизодах рассказа, отражающих показательные проявления психологии героя.
Энсон действительно любит Паулу, но сознание собственного превосходства над окружающими определяет его поведение и в любви, он сам виновен в том, что в конце концов расстается с любящей его девушкой. Даже принося извинения после упоминавшегося скандала в отеле, он держится так, будто имеет моральное преимущество. «Когда, — заключает автор рассказ об этом эпизоде,— через три недели они вернулись на Юг, ни Энсон, довольный таким оборотом дела, ни Паула, счастливая тем, что они снова вместе, не сознавали, что психологический момент упущен безвозвратно» (III, 212). В конце произведения рассказывается, как никому не нужный, не знающий, куда себя девать, Энсон встречается с Паулой, счастливой во втором браке, ожидающей желанного ребенка, и здесь ирония ситуации выступает наглядно. Нельзя не привести диалог, заключающий эпизод последней встречи Энсона с некогда любимой им и любившей его женщиной (Паула умирает при родах):
«— Он такой милый, правда, Энсон? — спросила она.
— Необычайно,— отозвался Энсон со смехом. Она подняла лицо и взглянула на мужа.
— Ну, я готова,— сказала она. Потом обернулась к Энсону.— Хочешь увидеть наш семейный гимнастический трюк?
— Да,— сказал он, притворяясь заинтересованным.
— Ладно. Алле-гоп!
Хэгерти легко подхватил ее на руки.
— Это называется наш семейный акробатический номер,— сказала Паула.— Он относит меня наверх. Ну разве не мило с его стороны?
— Да,— сказал Энсон.
Хэгерти слегка наклонил голову и коснулся щекою лица Паулы.
— И я его люблю,— сказала она.— Я тебе уже говорила об этом, правда, Энсон?
— Да,— сказал он.
— Он самый славный на свете, ведь правда, мой дорогой? Ну, спокойной ночи. Алле-гоп! Видишь, какой он сильный?
— Да,— сказал Энсон.
— Я там положила тебе пижаму Пита. А теперь сладких тебе сновидений — увидимся за завтраком.
— Да,— сказал Энсон» (111,241).
Энсон, не знавший, как провести уик-енд, принял приглашение супругов Хэгерти с охотой, которой не испытывал бы, если бы мог предвидеть эту сцену. Ведь на месте Пита Хэгерти мог быть он сам. Картина недоступного ему чужого счастья так сильно на него действует, потому что в момент встречи с Паулой он особенно остро чувствует свое одиночество. В кратких репликах героя, в том, как они произносятся, отражается перемена в его настроении, но, конечно, сцена имеет и более глубокий смысл.
Когда-то, упустив момент решительного объяснения с Паулой, фактически отказавшись от нее, Энсон вовсе не думал, «забывал» (это слово употреблено в рассказе) о ее чувствах. Он мог думать только о себе, он был уверен, что все в его руках. Правда, тогда, в 1920 г., он еще способен был плакать, «как ребенок» (III, 217).
Когда, уже в 1922 г. его полюбила Долли Карджер, он просто забавлялся ее чувством. Не отвечая ей взаимностью, он стремился лишь утвердить все то же ощущение собственного превосходства. Когда Долли прибегла к наивной уловке, чтобы вызвать его ревность, он сразу понял, в чем дело: «Он не ревновал — Долли для него ничего не значила,— но ее трогательная уловка всколыхнула в нем все упорство и самовлюбленность. Это была дерзость со стороны существа, стоявшего ниже его в умственном развитии, и он не мог такого стерпеть. Если ей угодно знать, кто ее повелитель, она скоро узнает это» (III, 222). Эпизод с Долли в рассказе следует непосредственно за «информацией» о разрыве с Паулой. В психологии Энсона за два года произошел сдвиг. Теперь он уже не способен плакать. По отношению к Долли он ведет себя с циничной бесцеремонностью, даже жестокостью, которой сам не замечает. Позже, как сообщает автор, Долли тоже вышла замуж, а Энсон некоторое время лелеял планы женитьбы на какой-нибудь любящей его девушке, просто чтобы не остаться холостяком. Он даже жалел о Долли, но осуществить эти планы ему не пришлось. Вновь в рассказе дает себя знать ирония ситуации.
Эпизод с Долли завершается в третьей части рассказа, а в четвертой раскрывается новый этап психологического развития героя. Энсон грубо вмешивается в интимные дела своей тетки, «вступаясь за честь» дяди Роберта. Снова им руководит только сознание собственного превосходства: охлаждение между ним и дядей Робертом наступило давно, и соображения о чести семьи не кажутся фальшивыми только в его собственных глазах. Вмешиваясь в чужую жизнь, демонстрируя все то же «превосходство», Энсон становится косвенным виновником гибели человека, но «Энсону в голову не пришло обвинять себя в этом происшествии — стечение обстоятельств, которое привело к такому концу, отнюдь от него не зависело» (III, 233).
Характер Энсона, как видим, обрисован в динамике. Развитие психологии героя, обусловленной, еще раз подчеркиваем, его принадлежностью к миру «очень богатых», отражается в необычной для Фицджеральда, но адекватной и убедительной художественной форме. Рисуя Энсона, писатель по-новому, психологически углубленно использует мотивы, уже звучавшие в его рассказах, в частности в новелле «Самое разумное». Авторский анализ отмечен почти научной объективностью, но социально-критическая направленность произведения очевидна.
Тонким лиризмом проникнут рассказ «На улице, где живет столяр» (1928). В нем описан только один небольшой эпизод жизни семьи. Отец, мать и маленькая дочь приезжают к столяру, чтобы заказать девочке кукольный дом. Пока мать ведет переговоры с мастером, отец и дочь ждут в машине, и отец развлекает ребенка тут же придуманной простенькой сказкой. Договорившись о заказе, мать, которой пришлось немного подождать у столяра, выходит, и вся семья уезжает. Несмотря на внешнюю простоту, эта короткая новелла раскрывает психологию всех персонажей и в результате оказывается буквально насыщенной чувством и настроением, в которых заключен существенный смысл. Ее внутреннее содержание далеко выходит за рамки бытового, незначительного, на первый взгляд, случая. Описываемое событие занимает каких-нибудь полчаса, но автор не просто «замедляет» действие, рассказывая об ожидании в автомобиле, но и органически вводит в эпизод «большое время».
Психологический рисунок рассказа определяется двумя линиями. Это, с одной стороны, придает повествованию объемность, лишает его каких бы то ни было оттенков схематичности, а с другой — позволяет выявить существенное внутреннее содержание. Переплетение этих линий во многом обеспечивает единство произведения. Содержательное значение имеет фон действия. Перекресток бедной улицы и «какого-то грязноватого переулка» (III, 244), случайные прохожие — все вовлекается в сферу психологического восприятия отца и дочери.
Более важная из основных линий отражает исполненный глубокого смысла контраст психологии ребенка и родителей. Эта линия последовательно проводится через все повествование, естественно проявляясь в показательных деталях. Отец и мать хотят сделать дочери сюрприз, поэтому они обсуждают подробности заказа на французском языке, которого девочка не понимает. «Опять вы по-французски»,— протянула девочка» (III, 244). Если бы все сводилось только к желанию сделать сюрприз, «протест» ребенка едва ли имел бы скрытое значение, но произносимые по-французски слова посвящены сугубо практическим, прозаическим подробностям, небезразличным, кстати, для раскрытия даже социально-психологических моментов. Кукольный дом стоит достаточно дорого. Не случайно первая же реплика матери (пятая строка рассказа) свидетельствует, что ее прежде всего занимает цена игрушки. Повествование ведется так, что каждая «невинная» естественная фраза наделяется смыслом, важным для художественной структуры целого. Когда мать уходит к столяру, отец и дочь сначала разглядывают улицу молча. «Знаешь что,— вдруг сказал мужчина,—а я тебя люблю» (III, 245). Он действительно любит дочь. Это чувство раскрывается во всем его поведении, но одновременно все более четко вырисовывается невозможность для него войти в мир детского воображения, которое воспринимает сказку как реальность. Различие психологического восприятия определяется не только разницей в возрасте, но и тем прозаическим характером жизни родителей, который «приземляет» ее, лишая всякого романтического ореола.
Прозаизм мышления отца и матери резко противопоставлен особенностям детского психологического восприятия. Соответственно окрашен и видимый фон действия. Двуголосое слово художественной прозы отчетливо звучит, например, в пояснении, где авторскую речь трудно отделить от мысли отца. Он только что, развивая сказочные мотивы, объявил прохожего бравым гвардейцем короля. Прямая речь тут же перебивается многозначительным комментарием: «Мимо шел приказчик ювелирного магазина Мюллера, и вид у него был далеко не бравый» (III, 247).
Девочка моментально входит в сказку. Отец, придумывая ее, дважды зевает, причем второй раз, когда уже и сам успел увлечься собственной выдумкой. В мыслях он отвлекается от сказочных событий. Между ним и дочерью все время существует что-то вроде непроницаемой перегородки. Наконец, он и сам осознает это: «И взрослый человек вдруг понял, что день этот запомнится ему надолго: тихая улочка, ласковое осеннее солнышко и сказка, разыгрывающаяся перед глазами дочурки, сказка, которую он придумал, но вкус и аромат которой ощутить ему уже не дано» (III, 247). Когда появляется мать, вновь звучит французская речь, отделяя ребенка от родителей. В этой речи возникают те же мотивы, что и в первых французских репликах. Тогда муж говорит жене, что главное, чтобы кукольный дом был не меньших размеров, чем заказали своей дочери некие Мэрфи. Теперь жена, в свою очередь, сообщает мужу, что столяр делал кукольные домики для Дюпонов, сделает и для них, а ценой интересуется уже отец. Социальное тщеславие родителей удовлетворено. Рассказ заканчивается: «Дальше они ехали молча, каждый думал о своем. Даму занимал кукольный домик — она выросла в бедности, и таких игрушек у нее никогда не было; мужчина с удовлетворением думал о том, что скоро у него будет миллион долларов; а маленькая девочка вспоминала о необычайных происшествиях на грязной улочке, которая осталась далеко позади» (III, 248).
Концовка многозначительна. Она вновь акцентирует различие психологического восприятия, открыто вводит мотив богатства, а также тонко намечает вторую важную линию — различий в психологии отца и матери. Эта линия также раскрыта в рассказе с искусством тем более удивительным, что женщина в действии почти не участвует. Отметим лишь одну деталь. Второй диалог на французском языке отделен от приведенной концовки мотивами все той же сказки. Муж коротко рассказывает жене содержание своей выдумки. Увлеченная сказкой дочь перебивает его и сама — в диалоге с отцом —заканчивает сказочную историю, но мать так и не включается в игру. Сообщив, по-французски, что домик стоит двадцать пять долларов, и попросив, по-английски, у мужа прощения, что заставила его ждать, она не произносит больше ни слова. Так звучит грустная нота, диссонирующая с испытываемым мужчиной чувством удовлетворения. Во всем рассказе нет ни одного лишнего слова. Авторский комментарий незаметно оттеняет глубинный смысл эпизода, социально-психологическое содержание которого выявляется в искусно созданном подтексте.
Коллизия рассказа «Опять Вавилон» (1931) также строится вокруг фигуры ребенка, но образ девочки в нем играет второстепенную, служебную роль. «Опять Вавилон» представляет собой, по сути, историю только о взрослых. В рассказе вновь звучат грустные мотивы ушедших лет, утраченных возможностей.
Прошлое и настоящее в рассказе неотделимы. Действие, происходящее в условном настоящем, находит объяснение и обоснование в событиях минувших лет, времени бума. Связь времен проявляется в психологии действующих лиц, мотивах их поведения, социальных нюансах. В судьбах отдельных людей воплощается серьезная социальная тема. Раскрытие ее неразрывно связывается с идеей единства человеческой жизни, невозможности уйти от прошлого и важности жизненной позиции. Так в повествование входит существенный мотив подлинных и мнимых ценностей, пользовавшийся, как известно, особенным вниманием писателей «потерянного поколения». Все это обусловливает значение предыстории собственно Действия.
Чарлз Уэйлс работал до тех пор, пока биржевой бум неожиданно не сделал его богатым. Объясняясь с Питерсами, он говорит: «Я десять лет работал не покладая рук, ты же знаешь,— а потом повезло на бирже, и многим, не одному мне. Неслыханно повезло. Казалось, работать нет смысла, я и бросил» (III, 324). Наступили годы рассеянного образа жизни. Чарлз и его жена Элен, приехав в Париж, швырялись деньгами, много пили, между ними наступило охлаждение. Однажды в приступе пьяной ревности он ночью не впустил жену в дом, оставив ее на заснеженной улице. Каким-то чудом Элен не заболела, но с этой ночи укрепилась ненависть к нему ее сестры Мэрион. Он дал согласие на опекунство над Онорией, находясь в отчаянных обстоятельствах: «...сидел в лечебнице, а верней, лежал на обеих лопатках, если учесть, что крах на бирже пустил меня по миру» (III, 323). Теперь у Чарлза все иначе. Он снова зарабатывает вдвое больше, чем Линкольн Питере, который во времена бума едва сводил концы с концами, но впоследствии улучшил свое материальное положение. Хотя дела Чарлза изменились и сам он уже не тот, что раньше, расстаться с прошлым нелегко. Двое прежних собутыльников героя буквально вламываются к Питерсам в самый неподходящий момент, обрекая планы Чарлза на неудачу.
Отказ Мэрион отпустить девочку Чарлз воспринимает особенно остро и болезненно не только потому, что новая разлука с дочерью может привести к отчуждению между ними, усугубляет его одиночество, но и потому, что он действительно изменился. Приехав в Париж за дочерью, осматривая город, он по-новому понимает, «что значат слова «вести рассеянный образ жизни» — рассеять по ветру, обратить нечто в ничто» (III, 316). М. Коренева правильно пишет, что история героя «окрашивается в трагические тона, когда он с беспощадностью осознает, что в обрушившихся на него несчастьях он должен винить не только слепые обстоятельства или социальные процессы, против которых человек бессилен, но и себя. В этой вновь обретенной способности предельно честного суждения герой рассказа возвращает себе не надежду на счастье, но человеческое достоинство личности, способной отличить истинные ценности от ложных» [31].
Истинные ценности Чарлза выявляются в желании человеческого общения, стремлении самому формировать личность дочери, но главное для него — вновь выработанная жизненная позиция, своего рода «кодекс», индивидуалистический характер которого не вызывает сомнений. Существо этого «кодекса» связано с отношением к деньгам. Не случайно на последней странице рассказа в размышлениях Чарлза появляется замечательная формулировка: «...мужчины, которые запирались в доме, а жен оставляли на снегу, потому что снег в двадцать девятом был словно бы и не снег. Хочешь, и будет не снег, стоит только заплатить деньги» (III, 333). Деньги явно обнаруживают свой безнравственный характер. Зависть к богатству Уэйлсов в немалой мере обусловливает ненависть Мэрион к Чарлзу, тем более что Элен и Мэрион вовсе не были так уж близки. Даже в момент примирения Мэрион с горечью говорит о том, что Чарлз может создать для дочери более богатую обстановку. Тем не менее автор не забывает подчеркнуть, что Чарлз не слишком богат. «Кодекс» героя имеет многие давно знакомые черты. Социальная тема как бы пронизывает все повествование. Ограниченность жизненной позиции героя и нравственная «недостаточность» денег отражаются в трагической тональности завершения рассказа: «Он еще вернется когда-нибудь — не заставят же его расплачиваться всю жизнь. Но дочь была нужна ему сейчас, и остальное в сравнении с этим как-то слабо утешало. Это в молодости хорошо думается и мечтается наедине с собою, а молодость прошла. Он точно знал, что никогда Элен не пожелала бы для него такого одиночества» (III, 334).
Когда мы говорим, что «Опять Вавилон» — одно из лучших произведений Фицджеральда в жанре «малой прозы», то имеем в виду не только художественные средства, позволяющие адекватно отобразить сложную проблематику. Отметим глубину авторского проникновения в психологию персонажей. Значительно более четко, чем, например, в новелле «На улице, где живет столяр», прослеживается разница характеров мужа и жены. В каждом действии, поступке, движении, слове, в каждой мысли Чарлза точно отражается новое качество его личности, ее психологическая динамика. Даже служебные образы — маленькой Онории, прежних собутыльников Чарлза (Дункана Шеффера и Лорейн Куорлз), барменов — отличаются той жизненной достоверностью, которая достигается лишь в результате глубокого психологического анализа и выявления соответствующей мотивации. Это можно показать на множестве примеров. Рассмотрим лишь один.
Вот отрывок эпизода, рассказывающего о дне, который Чарлз провел с дочерью. В этой сцене художественное мастерство писателя находит многообразные проявления:
«Я хочу познакомиться с тобой поближе,— серьезно сказал он.— Во-первых, разрешите представиться. Я — Чарлз Джей Уэйлс, живу в Праге.
— Ой, папа! — У нее голос сорвался от смеха.
— А вас как зовут, позвольте узнать? — не отступался он, и она мгновенно включилась в игру.
— Онория Уэйлс, живу в Париже, улица Палатин.
— Одна или с мужем?
— Одна. Я не замужем. Он указал на куклу.
— Но я вижу, у вас ребенок, мадам. Обидеть куклу было выше сил, Онория прижала се к груди и быстро нашлась:
— Верно, я была замужем, а теперь — нет. У меня муж умер.
Чарлз поспешно задал новый вопрос:
— И как же зовут вашу дочку?
— Симона. В честь моей школьной подружки, самой лучшей.
— Я так доволен, что у тебя успехи в школе.
— На третьем месте в этом месяце,— похвалилась она...» (III, 318).
Каждая деталь здесь необыкновенно выразительна. Чарлз действительно хочет поближе познакомиться с дочерью, которую давно не видел, но естественный игровой момент разговора оказывается для девочки неожиданным, что и отражено в ее первой реплике, сопровождающейся к тому же характерным «пояснением». Особенности детского мировосприятия проявляются в том, как быстро Онория входит в игру, в ее отношении к кукле, в том, наконец, как жизненный опыт ребенка окрашивает обертоны диалога. Онория потеряла мать и, естественно, объясняет отсутствие мужа его смертью. Ее сознание, конечно, еще не освоило такие явления, как разрыв, развод, супружеские измены, столь характерные для парижского разгула времен бума.
Движение диалога обусловлено совершенно естественной, но в некоторых существенных частностях многозначительной ассоциативной связью. Приведенному отрывку непосредственно предшествует открыто аналитический период. В диалоге анализ дополняется «чистым» синтезом: когда Онория говорит, что ее муж умер, Чарлз не может не подумать о смерти жены. Но эта тема не для данного случая. Так объясняется поспешность, с которой он, меняя разговор, задает новый вопрос. Эта же поспешность объясняет банальность вопроса. И так далее. Тонкая писательская техника, глубокое проникновение в психологию персонажей, умелое выявление причинно-следственных отношений и связи времен позволили Фицджеральду развернуть трехдневный частный эпизод в широкую, многоплановую, социально насыщенную и очень убедительную картину.
Фицджеральд был большим мастером психологического этюда. В поздней новеллистике писателя краткий этюд нередко имеет важное содержание, раскрывающееся в непосредственном душевном движении и настроении героя. Описываемый случай может показаться незначительным, подчас создается впечатление, что единственной целью автора является как раз просто представить более или менее острый психологический момент, но такое впечатление в конце концов опровергается, и смысл описываемого предстает в новом свете. В конечном счете, так определяется принципиальное отличие этюда от полноценного рассказа. В этом отношении очень характерна коротенькая новелла «Три часа между самолетами» (впервые опубликована в 1941 г.).
Три часа между посадкой и вылетом Дональд Плант решил посвятить встрече с Нэнси Холмс, за которой ухаживал, когда был еще подростком. Тогда Нэнси предпочла ему другого. Прошло много лет, она замужем, он успел овдоветь, преуспевает, но уже в том волнении, с каким он листает телефонную книгу в аэропорту, сквозит тоска по романтическому времени юности, а косвенно ощущается и неудовлетворенность прозаической взрослой жизнью. Нэнси превратилась в «прелестную темноволосую женщину» (III, 389), встреча начинается прекрасно, и на минуту Дональду кажется, что прошлое можно вернуть: «За полчаса у него в душе появилось чувство, которого он не испытывал с тех пор, как умерла жена, и не надеялся, что еще испытает когда-нибудь» (III, 392). Кажется, и Нэнси заражена готовым вновь вспыхнуть чувством, но в самый острый момент свидания выясняется, что она принимала его за другого, за Дональда Бауэрса, которого сама любила в ранней юности.
Настроение Нэнси резко меняется. То, что для Дональда Планта было так серьезно, для нее мгновенно утрачивает всю прелесть, и в этой перемене отчетливо видно разделяющее героев рассказа психологическое различие, различие восприятия жизни. Уже в воздухе Дональд отдает себе отчет в случившемся: «Пять ослепительных минут он жил, как безумный, сразу в двух мирах. Неразделимо и безнадежно смешались в нем двенадцатилетний мальчик и тридцатидвухлетний мужчина. А еще он многое потерял за эти часы между рейсами, но вторую половину жизни человек постоянно что-то теряет, а потому, вероятно, это было не так уж важно» (III, 394).
Каждое слово, каждая мельчайшая деталь повествования направлены у Фицджеральда на раскрытие психологии героев. Строжайший отбор проводится, как это характерно для лучших произведений писателя, с мастерством, скрывающим условность модели. Вымысел предстает как точное воспроизведение реальности. Чтобы увидеть это, достаточно рассмотреть любой микроэпизод новеллы. Картина жизни, отраженная в «пяти ослепительных минутах», окрашивается характерными невеселыми тонами. В новелле «Три часа между самолетами» вновь, как в рассказе «Опять Вавилон», явственно звучит мотив трагического стоицизма.
Еще более концентрированное выражение находит ощущение трагизма жизни в рассказе «Долгое ожидание» (1937). Его героиня миссис Кинг — молодая, счастливая в браке женщина. Родив второго ребенка, она заболевает послеродовым нервным расстройством, но выздоравливает. Муж должен приехать за ней, и она, торопясь его встретить, выходит — приодетая, с вещами — в вестибюль клиники, но муж не приезжает, так как по дороге случайно гибнет в автомобильной катастрофе. Сознание миссис Кинг не в состоянии воспринять горестную весть. Годами она каждый день спускается в вестибюль, ждет, возвращается в палату и назавтра снова выходит ждать того, чему не суждено случиться. Рассказ точен во всех деталях. Так, рассказчик не забывает сообщить: «Ежегодно ее шляпку потихоньку меняют на новую, в точности такую же, а платье на ней до сих пор прежнее» (III, 387). Страшен этот плен внутри самой себя. Недаром врач, от лица которого ведется повествование, обрывает его, говоря, что лучше уж беседовать о каменных мешках, в которых заживо хоронили людей в эпоху средневековья.
Большой художник-гуманист, Фицджеральд, оставаясь верным современности, не раз обращался к «вечным темам» — жизни и смерти, любви и безумия.
Упоминавшиеся в начале главы циклы рассказов относятся к поздней новеллистике писателя. Попробуем кратко охарактеризовать их. Цикл о Бейзиле Ли был создан в 1928—1929 гг. В него входят девять новелл, каждая из которых показывает какой-то интересный или важный момент в психологическом развитии героя. В первом рассказе Бейзил еще мальчик, едва достигший возраста подростка. В последнем он студент, расстающийся с некоторыми юношескими представлениями. Все девять рассказов насыщены приметами времени, выразительно рисуют быт так называемого среднего класса, но не затрагивают больших социальных проблем. Тем не менее в цикле отчетливо проявляется умение писателя глубоко проникнуть в психологию героя и передать тончайшие оттенки настроения и те психологические нюансы, которые взрослому обычно кажутся несущественными или даже смешными, но для подростка и юноши столь же важны, сколь для взрослого его серьезные переживания. Из рассказов о Бейзиле видно, что Фицджеральд не только хорошо помнил события собственной юности, но и сохранил живое ощущение остроты некогда испытанных чувств. Отсюда мягкая ирония и лиризм этих произведений.
Цикл о Джозефине Перри является как бы продолжением рассказов о Бейзиле, рисует относящийся к тому же времени психологический портрет девушки из буржуазной среды. Всего Джозефине посвящены пять рассказов, написанных в 1930—1931 гг. Хотя и в них писателя занимает прежде всего психология, отражающая возрастные особенности и характерные изменения общественных нравов, этот цикл несколько более заострен в социальном плане, чем, по мнению М. Кореневой, скорее всего и объясняется тот факт, что последние два рассказа о Джозефине не включались в сборники [32]. Образ Джозефины обрисован в более жестких тонах, чем образ Бейзила. Наряду с мягкой иронией в рассказах звучат и сатирические ноты. Вряд ли стоит переоценивать социально-критические мотивы обоих циклов, но нельзя не видеть, насколько углубляется в них психологический анализ и как точно отражено движение времени, вызвавшее значительный сдвиг во взглядах на проблемы морали.
В январе 1940 г. журнал «Эскуайр» опубликовал первый рассказ о Пэте Хобби. Начиная с этого времени в течение семнадцати месяцев «Эскуайр» печатал по одному рассказу цикла. В 1962 г. в предисловии к сборнику, объединившему все семнадцать рассказов, редактор журнала, успевший уже выйти в отставку, изложил историю их создания и первой публикации [33].
Фицджеральд писал их едва ли не в самое трудное время своей жизни. Сравнительно небольшой гонорар, который они приносили, едва позволял писателю оплачивать текущие расходы. В период их создания Фицджеральд уже был серьезно болен и вынужденно отрывался от напряженной работы над романом «Последний магнат». Все же он относился к циклу очень внимательно, многократно правил написанное и заботился о правильном порядке публикации. В каждом рассказе о Пэте Хобби видно зрелое мастерство новеллиста.
Этот цикл несколько отличается от предшествующих. Характер Пэта Хобби «задается» в первом же рассказе и в дальнейшем не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Некогда известный и высокооплачиваемый, но спившийся голливудский сценарист Пэт Хобби перебивается случайными мелкими заработками. Только сохранившиеся старые связи помогают ему удерживаться на студии. Он представляет собой фигуру не трагическую, а просто жалкую и к тому же отнюдь не симпатичную. Характер его обрисован очень точно и выразительно, но едва ли можно согласиться с автором упоминавшегося предисловия, когда он отводит место этому герою «по крайней мере между Монро Старом и Эмори Блейном» [34].
Цикл интересен другим. С неистощимой изобретательностью Фицджеральд создает разнообразные ситуации, в которых отражаются многие существенные черты Голливуда. Каждый эпизод изнутри раскрывает ту или иную типичную особенность голливудского быта, в каждом рассказе проявляется замечательное новеллистическое мастерство писателя, юмористическая тональность нередко обретает сатирические обертоны. Разумеется, цикл о Пэте Хобби ни в коей мере не сопоставим с романом «Последний магнат». Сам характер героя во многом препятствует заострению критической тональности, но в совокупности эти рассказы дают довольно широкую картину жизни знаменитой «фабрики грез».
Завершая краткую характеристику новеллистики Фицджеральда, необходимо коснуться еще одного вопроса. Выше говорилось, что критика нередко склонна оценивать рассказы писателя как средство накопления и испытания идей, тем и художественных решений для последующего использования в романах. Действительно, нетрудно заметить, что Фицджеральд довольно часто включает в свои романы не только отдельные фразы или пассажи, но и целые эпизоды, заимствованные из ранее написанных рассказов, а иногда и весь соответственно подредактированный рассказ. Некоторые эпизоды переходят из одного рассказа в другой. Это обстоятельство привело к тому, что первый роман писателя был назван собранием его сочинений. Фицджеральд не изменял такой практике и в дальнейшем. М. Бракколи справедливо отмечает, что в книге «Ночь нежна» Фицджеральд использовал двенадцать своих рассказов, и перечисляет их [35]. Текстуальные совпадения нетрудно продемонстрировать.
Заметно также, что некоторые рассказы писателя составляют как бы сжатую проекцию будущего романа или поднимают темы, которым предстоит получить развитие в крупномасштабных полотнах. Показательным в этом отношении является, например, превосходный рассказ «Отпущение грехов» (1924). Первоначально он был задуман как пролог к «Великому Гэтсби». Фицджеральд во-время понял, что пролог оказался бы в романе лишним и, внеся необходимые изменения, превратил пролог в рассказ.
Мальчик Рудольф Миллер, герой этого произведения, растет в семье ревностных католиков и сам является страстно и наивно верующим. Он боится греха, боится немедленной божьей кары, но убожество окружающего быта вызывает в его душе резкий протест. Впадая в грех гордыни, он не хочет считать отца и мать своими настоящими родителями, придумывает себе более высокое и романтическое происхождение и новое красивое имя. Превращаясь в Блэчфорда Сарнемингтона, он как бы вырывается из жалкой действительности и сам становится другим — изящным, смелым, гордым, благородным, вызывающим всеобщее восхищение. Сходство с историей превращения Джеймса Гетца в Джея Гэтсби здесь очевидно, но не менее очевидно и различие в разработке той же темы в произведениях разных жанров.
В рассказе находим характерный частный эпизод. Действия мальчика получают глубокое психологическое обоснование, убожество быта выступает наглядно, а наивная вера сообщает переживаниям Рудольфа особенную остроту. Конечно, тема рассказа очень серьезна, но законы жанра обусловливают рамки ее разработки. Тематическое сходство многих рассказов и романов Фицджеральда вовсе не удивительно. Оно определяется общей направленностью, тем кругом проблем, которые в первую очередь занимали писателя. Добавим, что у писателей, связанных с «потерянным поколением», тематическая «перекличка» обоих жанров вообще вполне обычна, и этот факт совсем не трудно объяснить. Важнее, нам кажется, отмечать не естественные тематические совпадения, а существенные различия в разработке той же темы, определяемые жанровой спецификой. Думается, именно такой подход позволяет по достоинству оценить как романы, так и новеллистику Фицджеральда, в полной мерс выявить кардинальные аспекты его стиля.
В том же плане, вероятно, нужно рассматривать и проблему художественных решений. С. Пероза тщательно фиксирует этапы развития техники писателя в рассказах, но произведения «малой прозы» трактуются им в основном как шаг на пути к роману. Так, символика «Алмазной горы» представляется критику механической и весьма простой, чем, по его мнению, и отличается от сложной и содержательной символической структуры «Великого Гэтсби» [36]. Такой подход ведет к недооценке жанровой специфики. Не учитывается откровенно сатирический характер рассказа, его направленность и преднамеренная условность. Оценка рассказа — как самостоятельного и полноценного художественного произведения, — естественно, оказывается односторонней. Как ни справедливо сделанное там же наблюдение критика о «контролирующем центре» (то есть передаче всего от начала до конца через восприятие героя), впервые найденном Фицджеральдом в «Алмазной горе», нельзя не заметить, что такой «контролирующий центр» в рассказе и романе отнюдь не одно и то же. Разумеется, школа рассказа немало способствовала становлению Фицджеральда-романиста, но прямолинейное сопоставление различных жанров ведет к неизбежному упрощению в оценке всего творчества писателя.
В рамках данной работы новеллистика Фицджеральда была охарактеризована только в самых общих чертах, так как иначе потребовалось бы отдельное большое исследование. Далеко не все даже лучшие рассказы писателя были рассмотрены, не все их художественные особенности проанализированы, не все проблемы освещены. Тем не менее уже можно, по-видимому, сделать некоторые выводы. Первые крупные достижения Фицджеральда в новеллистике относятся к 1920 г. При всем тематическом и формальном (внутрижанровом) разнообразии зрелых рассказов писателя в них прослеживается тенденция к художественному освоению действительности сначала вширь, а потом и вглубь. В лучших рассказах обоих периодов большая социальная проблематика находит адекватную художественную форму. Даже «коммерческие» произведения неизменно отмечает печать таланта. Новеллистика писателя составляет важную самостоятельную сторону его творчества. Развивая традиции жанра, Фицджеральд показал огромный диапазон его возможностей, существенно обогатил сокровищницу американской и мировой литературы.
Примечания
1 Yates D. A. The road to "Paradise": Fitzgerald's literary apprenticeship. Modern fiction studies, Spring, 1961, Vol. 7, N 1, p. 19-31.
2 Коренева М. Предисловие.- В кн.: Fitzgerald F. S. Selected short stories. M., 1979, с. 5.
3 Там же.
4 Коренева М. Назв. работа, с. 7.
5 Старцев А. Новелла в американской литературе XIX-XX вв.- В кн.: Американская новелла XIX века. М., 1958, с. 24.
6 Fitzgerald F. S. The letters, 1968, p. 349.
7 Fitzgerald F. S. The letters, p. 327.
8 Mizener A. Introduction.- In: Fitzgerald F. S. Afternoon of an author. New York, 1957, p. 7.
9 Коренева М. Назв. работа, с. 8.
10 Fitzgerald F. Flappers and philosophers. New York, 1959, p. 17.
11 Fitzgerald F. Flappers and Philosophers, p. 22.
12 Фицджеральд Ф. С. Хрустальная чаша. - Знамя, 1976, № 11, с. 108.
13 Mizener A. Op. cit. p. 15.
14 Знамя, 1976, с. 107.
15 Fitzgerald Г. Flappers and philosophers, p. 159.
16 Ibid., p. 173.
17 Rosenfeld P. Fitzgerald before "The Great Gatsby", 1925 - In: Collection 1, p. 75.
18 Geismar M. The last of the provincials. Boston, 1947, p. 308.
19 Perosa S. Op. cit, p. 33; Еblе К. F. Scott Fitzgerald, p. 56; Miller J. E. Jr. F. Scott Fitzgerald, p. 44; Cross K. G. W., Op. cit., p. 50.
20 Piper H. D. F. Scott Fitzgerald. New York; Chicago, 1965, p. 70.
21 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя. М., 1972, с. 262-263.
22 Мендельсон М. О. Творческий путь Френсиса Скотта Фицджеральда, с. 179.
23 Cross К. G. W. Op. cit p.42
24 Еblе К. F. Scott Fitzgerald, p. 79.
25 Фицджеральд Ф. С. Забавный случай с Бенджамином Баттоном.- В кн.: Гости страны фантазии. М., 1968, с. 329.
26 Фицджеральд Ф. С. Забавный случай с Бенджамином Баттоном, с. 353-354.
27 Коренева М. Назв. работа, с. 13.
28 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 281.
29 Хемингуэй Э. Собр. соч.: В 4-х т. М.. 1968, т. 1, с. 407.
30 Editor's Note.- В кн.: The stories of F. Scott Fitzgerald/With an Introduction by Malcolm Cowley. New York, 1951, p. 176.
31 Коренева М. Назв. работа, с. 21.
32 М. Коренева. Назв. работа, с. 21.
33 Gingrich A. Introduction.- In: Fitzgerald F. S. The Pat Hobby stories. Harmondsworth, 1974, p. 7-23.
34 Gingrich A. Op. cit., p. 23.
35 Bruccoli M. J. The composition of Tender is the night. Pittsburgh, 1974, p. 84.
36 Perosa S. Op. cit., p. 57—99.
Далее: глава вторая На пути к собственному роману
Опубликовано в издании: Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. Киев: Наукова думка, 1984 (монография).