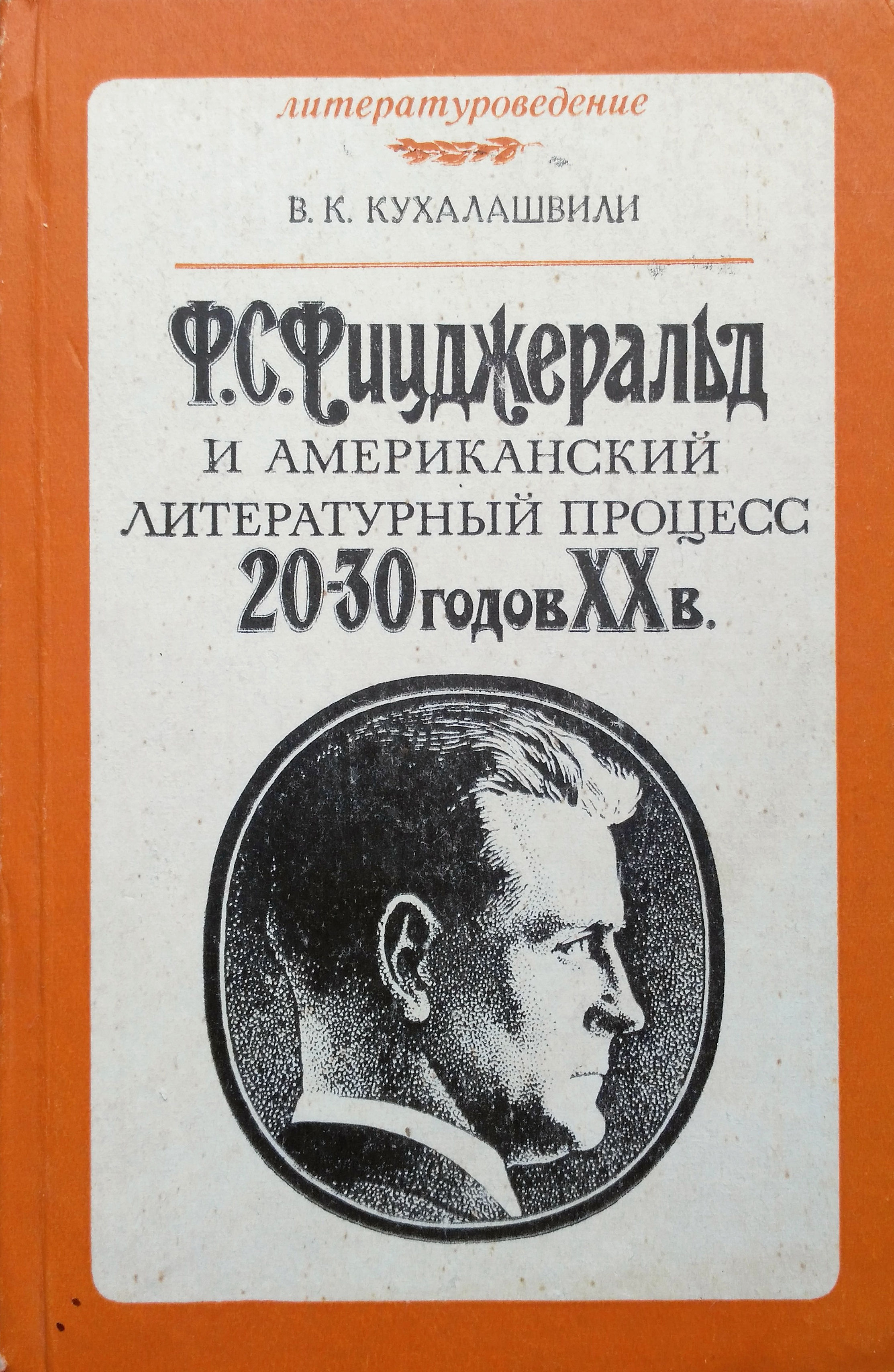Владимир Константинович Кухалашвили
Ф. С. Фицджеральд и американский литературный процесс 20-30-x годов ХХ в.
Творчество Фицджеральда и «Красные Тридцатые»
В «Письме к американским рабочим» В. И. Ленин писал: «В американском народе есть революционная традиция, которую восприняли лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам». Эта «революционная традиция» была воспринята в той или иной степени и американской литературой, в особенности когда в ней произошли важные сдвиги, — в десятилетие, получившее название «красных тридцатых».
Ему предшествовал долгий период относительной стабильности в экономике США. Буржуазная пропаганда пустила в ход лозунг о всеобщем процветании, об экономической устойчивости, не подверженной никаким потрясениям.
Экономический бум во много раз увеличил прибыли монополий, усилил кризис перепроизводства.
Еще 23 октября 1929 г. еженедельник «Нейшнл» начал «публикацию серии статей под общим заголовком «Процветание — хотите, верьте, хотите, нет». Но именно в этот день американскую биржу неожиданно охватила паника. Держатели акций мечтали лишь об одном — во что бы то ни стало поскорее избавиться от них, цены на акции продолжали катастрофически падать. Ситуация осложнилась в еще большей степени на следующий день — в течение некоторого времени на бирже были лишь акции на продажу, но покупателей на них не находилось».
Наступил «черный четверг» — 24 октября 1929 г., ознаменовавший начало беспримерного в истории США экономического кризиса.
«Великая депрессия» оставила без средств миллионы мелких вкладчиков, миллионы людей лишились работы. Страну захлестнула волна стачек, наблюдался резкий рост рабочего движения. Неудивительно, что в целом, под влиянием этих потрясений, «развитие литературы в 30-е годы проходило под знаком сближения лучших писателей с борьбой народных масс, с демократическими и социалистическими идеями».
В американской литературе в 30-е годы происходят значительные революционные сдвиги, демократизация всех видов искусства. Такие писатели США, как Д. Конрой, Д. Хербст, Р. Кентуэлл, обращаются к изображению «другой Америки».
В 30-е годы близки к позициям социалистического реализма Драйзер, Линкольн Стеффенс, Альберт Мальц, Майкл Голд. В американской литературе возник образ героя-коммуниста, включенного в контекст социальной борьбы, активного рабочего, интеллигента, борющегося против фашизма. Это позволило показать личность в отношении к коренным общественно-политическим проблемам. Эти тенденции видны в таких разных произведениях, как в трилогии о Стадсе Лонингане Джеймса Фаррела, в романе «Смерть и рождение Дэвида Маркенда» Уолдо Френка и в знаменитых «Гроздьях гнева» Джона Стейнбека. Не могли не откликнуться на идеи «красных тридцатых», пусть и в самых различных формах, такие большие писатели, как Эрнест Хемингуэй, Джон Дос Пассос, Томас Вулф, Уильям Фолкнер, Шервуд Андерсон, Френсис Скотт Фицджеральд.
Социальные противоречия обострились в это время до предела. И — как следствие сильнейших потрясений — наметился явный сдвиг влево в умонастроениях широких слоев американцев. 1929 год явился определенным рубежом и для творческой интеллигенции.
В июле 1932 г. Фицджеральд написал во многих отношениях примечательное эссе «Мой невозвратный город», в котором вновь звучит тема иллюзорности всеобщего процветания в «век джаза». Эпоху бума писатель называл чем-то «противоестественным». Но наряду с этим Фицджеральд упоминает и о растущем влиянии социалистических идей в послекризисной Америке.
Если паром через Гудзон символизировал для молодого писателя, по его словам, успех, нью-йоркские актрисы — романтику, то одинокое спокойствие и уверенность в себе — символизировал друг Фицджеральда еще по Принстону — утонченный эстет, известный критик Эдмунд Уилсон, которого в молодости сокурсники прозвали «кроликом».
Первые два символа стали для Фицджеральда воспоминаниями, утраченными иллюзиями. Третий символ также утратил свою силу, и не только потому, что Эдмунд Уилсон потерял, как, впрочем, и весь Нью-Йорк, уверенность и спокойствие. Этот символ стал просто иным: «А Кролик, сосредоточенно шагавший по тротуару с тростью в руке, чтобы поскорее скрыться от карнавала в своем уединении, теперь увлекся коммунизмом и негодует по поводу положения фабричных рабочих Юга и фермеров Запада, чьи голоса пятнадцать лет назад (то есть за несколько месяцев до Великой Октябрьской социалистической революции! — В. К.) никогда не проникли бы за стены его рабочей комнаты». Подтекст совершенно ясен. Если уже служитель муз, да еще рафинированнный, чуть ли не элитарного толка, начал проявлять интерес к коммунистическим идеям, то что уж говорить о писателях, представляющих демократическое направление в американской литературе? Примечательным является и весьма прозрачный намек на силу, оказавшую столь сильное воздействие на умонастроение интеллигенции США, — на революцию рабочих и крестьян в России.
Фицджеральд рассматривал «великую депрессию» как художник, он не ставил перед собой задачу дать подробный социально-экономический анализ происходящего, но писатель все же рассматривает кризис под социально-критическим углом зрения: «Он пришел два года назад, и пришел потому, что безграничной уверенности в себе, которой все и определялось, был нанесен сильнейший удар, и карточный домик рухнул. И хотя прошло с той поры всего два года, Век Джаза кажется таким же далеким, как довоенные времена. Да и то сказать, ведь это все была жизнь взаймы — десятая часть общества, его сливки, вела существование беззаботное, как у герцогов, и ненадежное, как у хористок».
Фицджеральд говорит не только о «депрессии», он сумел чутко уловить и те изменения, которым была подвержена американская действительность и, в первую очередь, об изменении самого «духа культуры», «то новое, что появилось в американской литературе, отнюдь не сводилось к признанию экономических пороков капиталистической системы в Америке — оно было гораздо шире и глубже — это был новый взгляд на американскую жизнь, новое ее эстетическое осмысление, которое было также результатом освоения опыта пролетарской литературы и широкого влияния эстетики социалистического реализма на творчество писателей — критических реалистов».
В те годы Теодор Драйзер издает «Трагическую Америку», выходит «Автобиография» Линкольна Стеффенса (1931), не только сохранившего традиции «разгребателей грязи», но и, под несомненным влиянием поездок в Мексику и Россию в 10-е годы, проделавшего значительную эволюцию, пришедшего к постановке новых социально-политических проблем не только в своем творчестве, но и в литературе США в целом. Критика социальных основ буржуазной Америки присуща творчеству С. Льюиса, Э. Синклера, Э. Колдуэлла, Р. Райта.
Веяния времени коснулись и творчества Шервуда Андерсона. В его книге «По эту сторону желания» (1932) при всей внутренней противоречивости чувствуется искренний интерес к движению трудящихся масс.
Фицджеральд не принадлежал к демократическому литературному движению, возникшему в начале 30-х годов. В его творчестве нет емких, глубоких образов революционного пролетария или же коммуниста-революционера, но социальная прозорливость писателя, критика, пусть и опосредованная, капиталистической системы, углубившаяся в 30-е годы, прогрессивные тенденции его творчества заслуживают высокой оценки.
Ведь была и другая реакция на депрессию. Это — ужас, парализовавший тысячи американцев, ощутивших свою беспомощность перед лицом истории. И это тоже отразилось в литературе. Появились произведения, в которых значительное внимание уделяется самым темным, самым грязным сторонам человеческого существования , но творчество Фицджеральда осталось в стороне от таких влияний.
Тем не менее экономический кризис совпал с кризисом в творчестве Скотта Фицджеральда: «В это трудное время, которое у многих американских художников отмечено нарастанием пессимизма (для примера можно назвать О'Нила и Хемингуэя), Фицджеральд остался фактически в полном одиночестве, что вместе с личным горем — психическим расстройством жены — усугубляло тяжесть его положения. Но даже и тогда художник в нем не капитулировал перед действительностью. Вместе со всей американской литературой он заново переосмысливал в свете трагических событий современности породивший их исторический процесс, пытаясь нащупать те «узкие места», те «слабые звенья», где ход социальной машины должен был неизбежно дать сбой. В этом анализе большую роль сыграл присущий ему дар исторического видения».
Ни над одним из своих романов Фицджеральд не работал столь долго, как над «Ночь нежна». Сохранились планы, заметки, даже готовые куски. А один из близких друзей Фицджеральда — Джеральд Мэрфи («Ночь нежна» вышла с посвящением ему и его жене Саре) — свидетельствует, что, включая окончательный, существовало восемь вариантов этого романа. Проверить это нет никакой возможности, но даже сохранившиеся неполные варианты позволяют говорить о поистине огромной работе, проделанной писателем.
Менялись черновые варианты, менялись и названия последнего завершенного романа Фицджеральда. В разное время он назывался «Парень, убивший свою мать», «Всемирная ярмарка», «Такой, как мы», «Дело Меларки», «Праздник доктора Дайвера», «Праздник пьяницы», «Ричард Дайвер», пока, непосредственно перед публикацией романа в журнале «Скрибнерз мансли», Фицджеральд окончательно не остановился на строке из «Оды к соловью» Джона Китса, хотя и считал такое заглавие слишком «лиричным» для среднего покупателя».
С 1932 по 1934 г. Фицджеральд, на этот раз почти не отрываясь, работает над романом. Перед выходом книги он писал Перкинсу: «Я так долго жил, замкнувшись в этой книге и окруженный ее персонажами, что мне часто кажется: реального мира вообще не существует, а существуют только мои герои. Это звучит ужасно претенциозно (боже мой, мне ли быть претенциозным?!), и тем не менее это абсолютный факт — радостные дни и потрясения моих героев для меня важны точно также, как то, что происходит в моей жизни».
Фицджеральд очень ценил роман «Ночь нежна» и даже незадолго до смерти взялся его переделывать, считая, что логика развития характера Дика Дайвера предполагает отказ от некоторых ретроспекций. Писатель не успел завершить эту работу. Тем не менее американский литературовед Малкольм Каули счел возможным подготовить к печати текст романа, в котором поменял местами первую и вторую части. Но такое решение представляется неверным. Фицджеральд пожертвовал хронологической последовательностью, но добился удивительного драматического эффекта с помощью ретроспекций, резких контрастных переходов, сближения «полярных» точек зрения и поэтому именно прижизненная публикация, как нам кажется, самым полным образом отвечает его замыслу.
Первоначальная композиция романа «Ночь нежна» создает временной сдвиг, иллюзию сдвига реальности, заставляет посмотреть на события, происходящие в романе, с самой неожиданной стороны.
Если Фолкнер и Вулф создают свою модель мира, ограничивая ее рамками небольших городков Соединенных Штатов, то Фицджеральд и Хемингуэй вслед за Марк Твеном и Генри Джеймсом переносят место действия некоторых своих произведений за океан — в Европу, тем самым, в известном смысле, тоже ограничивая его. Эта «замкнутость» у Фицджеральда («Ночь нежна») не столь незыблема, как, скажем, у Фолкнера («Авессалом! Авессалом!»), или у Томаса Манна («Волшебная гора»), но перед читателем, фактически, предстает все та же «модель … буржуазного общества, которой присущи основные противоречия и пороки оригинала». И прежде всего этот «оригинал», буржуазное общество, проецирует свой духовный распад на личность, которую само же сформировало.
Герой, живущий по законам человечности, чести и справедливости, герой, сохраняющий черты образов, созданных выдающимися американскими романтиками, обречен на духовный крах в обществе всеобщей коррупции, спекулятивного ажиотажа, экономических и политических афер.
Его не спасают ни расплывчатые, ни конкретные надежды и мечты, поскольку они носят ярко выраженный личный, даже индивидуалистический характер. В этом — схожесть «лирических» героев Фицджеральда и Хемингуэя, не говоря уже о типичном для творчества этих писателей, если не сказать, одном из основных, конфликте — между идеалом и действительностью.
В то же время у героев «кодекса» Хемингуэя преобладает «слабость в силе», т.е. сила, энергия, способность действовать сосуществуют в «сильных людях», в «настоящих мужчинах» с закованностью в мощную броню индивидуализма, которой они (естественно, безуспешно) пытаются оградить себя от общества только лишь для того, чтобы, как рыбак Гарри («Иметь и не иметь»), осознать непреложную истину — человек один не может, иначе «победитель не получает ничего». У героев Фицджеральда индивидуализм не приобретает столь резкие черты, как у «героев кодекса». Но их меньшая «сопротивляемость» и большая незащищенность создают предпосылки и для их духовной или физической гибели, хотя они и тянутся к другим людям, и даже способны создать, как Дик Дайвер, не только для себя, но и для других мир иллюзий, это проявление «силы в слабости» не спасает их от мучительного раздвоения между высокой мечтой и социальной действительностью. Скорее даже наоборот: при первом же серьезном столкновении героя с самыми реальными силами антигероической действительности он либо гибнет, либо навсегда остается надломленным. Бегство же в сферу иллюзорного воображаемого мира только еще раз подчеркивает трагедию героя.
Внешне сюжеты даже лучших романов Фицджеральда довольно просты, если не тривиальны. И, например, при пересказе содержание «Великого Гэтсби» легко сводится чуть ли не к схеме, а «Ночь нежна» выглядит как сцены из светской жизни. Иное дело — сюжет внутренний — именно он передает глубинные изменения в психике героев, постепенно раскрывает многоплановость образов, динамику их развития.
Сосредоточенность на внутреннем мире личности особенно заметна в романе «Ночь нежна». И здесь очень важную роль играет подача происходящего через сознание разных героев, которые фактически являются «рассказчиками», хотя повествование ведется и не от первого лица. Этот прием стал основой внутреннего сюжета в романе. Передавая действительность через мировосприятие разных героев, Фицджеральд одновременно «заставляет» их прибегать и к автохарактеристике, и оценивать ситуацию, движение души, поступки. При этом внутренний монолог переходит в несобственно-прямую речь, которую, в свою очередь, меняют непосредственно авторские отступления, хотя на протяжении всего повествования постоянно чувствуется незримое присутствие автора.
Поэтичность прозы Фицджеральда определялась не только лиричностью его произведений, но в некоторой степени и его любовью к поэзии как таковой. Незадолго до смерти он писал дочери: «Поэзия — это или огонь, горящий в твоей душе как музыка в душе музыканта, как марксизм в душе коммуниста, или ничто, пустое и скучное дело, повод для бесконечного жужжания комментаторов-педантов… «Ода к греческой вазе» невыносимо прекрасна, и каждый слог в ней неизбежен, как ноты бетховенской Девятой симфонии, — или же это просто нечто непонятное… Кажется, я перечитал ее сто раз. Примерно на десятый я начал понимать, о чем эта ода, и уловил внутреннюю музыку и изящество ее построения. Так же было и с «Соловьем», которого я не могу перечитывать без слез; всегда волнуют меня дивные стансы «Изабеллы» о двух братьях «Что им гордиться?» и «Канун св. Агнессы» — образность этой вещи самая богатая и полнокровная в английской поэзии, не исключая и Шекспира. И, наконец, его три или четыре поразительных сонета, «Яркая звезда» и др.
Если ты узнал эти вещи в ранней молодости и у тебя есть слух, едва ли ты потом, когда будешь читать, не почувствуешь разницу между талантом и бездарностью.
Сами по себе эти восемь стихотворений — школа мастерства для всякого, кто действительно хочет познать высшую цену слова, способного вызывать воспоминания, убеждать и очаровывать».
Тяга к поэзии, стремление «познать высшую цену слова» не могли не отразиться на прозе Фицджеральда.
Но, безусловно, не только в этом состоит поэтичность, например, романа «Ночь нежна». Вся художественная система произведения многозначна, «многоголосна, как многозначны и ассоциативные, прямые и косвенные связи между персонажами, как неоднозначен и «центр» романа — образ Дика Дайвера. Конечно, если скользить по поверхности, обладать абсолютной эстетической глухотой, можно посчитать Фицджеральда бытописателем богачей. Однако вдумчивого современного читателя, как отмечал А. Старцев, не оставляет «ощущение, что речь идет о чем-то более крупном и важном, чем судьбы героев романа… и заражает его глубокой тревогой». И именно такая «общая значимость и одновременно многозначность прозаического произведения, наряду с высокой образностью и расширенными ассоциативными связями, в определенной мере, приближают прозу к поэзии, позволяют нам обозначить ее еще и как поэтическую».
В романе «Ночь нежна» Фицджеральд вновь, как и в «Великом Гэтсби», осуждает мораль «очень богатых людей», которые «ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними».
Писатель коснулся сущности уродливых форм человеческих отношений в мире капитала, губительного влияния «больших денег», внутреннего кризиса личности и общества и — как следствие — гибели всех идеалов, надежд, иллюзий человека в этом мире.
Дик Дайвер, талантливый врач-психиатр, женится на своей пациентке Николь Уоррен, дочери миллионера, заболевшей шизофренией после того, как ее растлил собственный отец. Дайвер предпринимает попытку бороться против фатального влияния денег Николь, но терпит сокрушительное поражение. Писатель, безусловно, симпатизирует своему герою, прослеживает все ступени его краха: отступничество от любимого дела, духовный упадок и, как логичный финал, окончательное падение. Подобное падение и гибель ожидали и друга Дика — талантливого композитора Эйба Норта (прообразом его был друг Фицджеральда, мастер короткого рассказа Ринг Ларднер), убитого в пьяной драке. Талант отделяет Дика Дайвера и Эйба Норта от круга богатых посредственностей, но им не хватает внутренней силы для того, чтобы сберечь его. Поэтому при столкновении с обществом, где все отношения строятся на материальных интересах, талант, словно тягостный дар, вступает в противоречие с действительностью, а коррумпированная буржуазная система готова похоронить любой «творческий арсенал в уореновских сейфах».
В этом судьба Дика Дайвера созвучна трагедии самого Фицджеральда. Доктор Дайвер ненавидит собственный конформизм, но одновременно, хотя и не всегда сознательно, идет на компромисс со своей совестью. В одном из писем Фицджеральд утверждал, что он, как и Хемингуэй, строил финал некоторых произведений по конрадовскому принципу «умирающей осени» (эта мысль была высказана Конрадом в предисловии к «Негру с Нарцисса»). Но не только финал романа «Ночь нежна», а и медленная духовная смерть Дика Дайвера изображены по тому же принципу. Хотя еще стоит солнечное лето доктора Дайвера, но небо постепенно затягивают тучи, и вот уже опадает позолота с его таланта. Общий любимец, «счастливчик Дик» навсегда утрачивает целостность и однажды произносит нечто вроде автоэпитафии: «Я как Черная смерть… Я теперь приношу людям только несчастье».
«Лето» доктора Дика Дайвера окончилось слишком быстро. Когда-то от него «исходила сила, заставлявшая людей подчиняться ему с нерассуждающим обожанием», мечта стать «лучшим из лучших» психиатров не казалась несбыточной. Но постепенно, не заметив как и когда именно, он теряет духовные силы. И это объясняется не только тем, что заботы о здоровье Николь заставляли его быть мужем, врачом и сиделкой одновременно. Причины таятся глубже, и Фицджеральд подчеркивает, что их природа — социальна: «Его купили… Когда-то он умел проникать в суть вещей, решать самые сложные уравнения жизни, как простейшие случаи простейших болезней. Но за годы, прошедшие с того дня, когда он впервые увидел Николь на Цюрихском озере… эта способность притупилась в нем».
Дика Дайвера побеждает мир барбанов и мингетти, а деньги Николь девальвируют его моральные качества. Дик уже не чувствует удовлетворения в том, что он — талантливый врач, и прожигает жизнь в обществе богачей, мало чем отличающихся от его бывших пациентов.
Дик Дайвер привязан к самой Николь, а не к ее деньгам, но тем не менее они играют важную, особую роль в его деградации. И здесь вновь нельзя не вспомнить о творчестве Достоевского. У великого русского писателя «чуть ли не все преступления … задумываются и совершаются в связи с деньгами — почти по бальзаковски. Но если Бальзак рассматривал деньги в их чисто вещной функции, то Достоевский, как и Толстой, прослеживает и их отношение к человеческому в человеке. Бальзак вроде бы отторгал функцию денег от личности. Достоевский подчеркивал ее преломленную, подчас искривленную личностную форму». Если в ранних романах Фицджеральд рассматривал функцию денег ближе к, условно говоря, бальзаковской традиции, то в позднейших произведениях деньги у американского писателя принимают «личностную форму», сходную с их функцией у Достоевского.
Социально-психологическая трагедия Дика Дайвера завершается разводом с Николь и возвращением к врачебной практике, сначала в Буффало, а затем все в меньших и меньших городках Пятиозерья, пока последняя авторская ремарка — «во всяком случае, ясно, что он и сейчас где-то в тех краях» — не свидетельствует о том, что когда-то незаурядная личность окончательно растворилась в глуши американской провинции.
Дик Дайвер испытывает еще более полную и страшную утрату иллюзий по сравнению с Гэтсби. Ведь не только его мечта о любимой женщине и любимом деле пришли в трагическое несоответствие с действительностью, но само восприятие действительности Диком во многом оказалось искаженным. Его иллюзорные представления рушатся вместе с миром, который он создал и в который уверовал. Когда иллюзорный мир рухнул, его творец вынужден один на один противостоять истинной реальности, до поры до времени скрытой за его же собственными ложными представлениями. После смерти Эйба Норта и очередного приступа болезни у Николь Дик едет в Австрию, ненадолго, просто чтобы отдохнуть. Однако он слишком слился со своим миром и «одиночество, физическое и душевное» порождает в нем тоску, «а тоска еще усиливает это одиночество».
В Инсбруке Дика Дайвера настигает телеграмма, сообщающая о смерти его отца. После похорон ему кажется, что он больше никогда не вернется в Америку. И хотя в конце концов Дик вновь оказывается в Америке, для него в известном смысле «домой возврата нет». Не потому, что истинным «домом» Дика Дайвера стала Европа, но потому, что он, по существу, никак не связан с родиной после смерти отца, разрыва с Николь и погружения во все большее одиночество. Он «машинально» существует, «автоматически» лечит людей, но его моральное здоровье навсегда осталось в прошлом, жизненные силы иссякли, внутренний распад его личности принял необратимый характер. Дик чувствует себя чужестранцем в родной стране. Не случайно в романе возникает тема прощания с «домом» во время похорон отца Дика. В отличие, например, от Юджина Ганта Дайвер никак не ощущает единства со своей землей и, пусть не без внутренней борьбы, прощается с ней: «Целый час выраставший перед глазами Нью-Йоркский порт, блистательный фасад родины, на этот раз показался Дику торжественно печальным, оттого, что был неотделим от горя, причиненного ему смертью отца. Но когда он сошел на берег, это чувство исчезло и больше не возвращалось — ни на улицах, ни в отелях, ни в поездах, мчавших его сперва в Буффало, а оттуда на юг, в Виргинию, вместе с отцовским гробом… На следующий день тело отца опустили в могилу среди сотен Дайверов, Хантеров и Дорси. Было утешительно, что он останется тут не один, а в кругу своей многочисленной родни. Насыпали невысокий холмик и по бурой рыхлой земле разбросали цветы. Ничто больше не связывало Дика с этими местами, и он не думал, что когда-нибудь вернется сюда. Он опустился на колени. Он знал людей, которые здесь лежали, крепких, жилистых, с горящими голубыми глазами, людей, чьи души были вылеплены из новой земли во тьме лесных чащ семнадцатого столетия.
— Прощай, отец, прощайте, все мои предки».
Конечно, и у Хемингуэя часто «победитель не получает ничего», фолкнеровских героев на их жизненном пути подстерегают трагедии, но они идут наперекор судьбе. Человек Хемингуэя в самых критических положениях стремится сохранить свое «я», отстаивает свое достоинство, верность самому себе, следует определенному, «хемингуэевскому» «кодексу чести». Иное у Фолкнера и у его героев, так как «любой из них убежден, что он по меньшей мере равен всем силам мира, и с неподкупной, непонятной этим силам дерзостью начинает их сокрушать; очень часто он побеждает». Дик Дайвер побежден, повержен как личность, теряет себя. Он, внешне не показывающий слабости, самостоятельно мыслящий, в конечном счете оказывается неспособным к действию и почти равнодушно следит за развитием своей собственной трагедии.
Фицджеральд в какой-то степени использовал традицию автора «Приключений Гекльберри Финна» в своих двух последних романах. Не только в аспекте слияния реалистических и романтических черт, но и в том, что и в «Ночь нежна» (частично), и в «Последнем магнате» (полностью) события показаны через восприятие юной героини. Впрочем юности «изначально» присуще романтическое восприятие действительности. Так, и Розмэри Хойт в «Ночь нежна», и Сесилия Бренди в «Последнем магнате» видят Дайвера и Стара в романтическом свете.
Одновременно в обоих романах можно обнаружить и твеновскую манеру отображения мира, пусть в данном случае и не глазами «простака» или подростка, но достаточно неискушенной и наивной молодой девушки. В романе «Ночь нежна» это происходит только в первой книге, а во второй и в третьей события подаются через призму восприятия Дика и Николь. В «Великом Гэтсби» образ рассказчика — Ника Каррауэя — претерпевает значительную эволюцию по сравнению с другими героями романа. Поэтому «точка зрения» рассказчика меняется не только за счет временных, но и внутренних, «личностных» сдвигов. Иное наблюдение в «Ночь нежна», где непосредственного рассказчика нет, но все события последовательно «пропущены» через сознание Розмэри, Дика и Николь. Их мировосприятие разное, и, таким образом, Фицджеральд вновь создает меняющуюся «точку зрения». Розмэри, Дик и Николь фактически являются особого рода рассказчиками, привносят в роман своеобразные «дополнительные» мнения, суждения, оценки как близкие, так и далекие от авторских и находящиеся с ними в сложном переплетении и взаимодействии. В отличие от фолкнеровского «многоглазия» у Фицджеральда «рассказчики» в данном романе не освещают по-разному одни и те же события. Каждый из них «рассказывает», пусть и не от первого лица, о разном и по-разному, причем часто следует «прорыв» авторской речи в условную речевую стихию героя: «Девушка стояла спиной к нему, любуясь панорамой городских огней. Он чиркнул спичкой, в расчете, что она оглянется на звук, но она не шевельнулась.
…Что это, призыв? Или, напротив, знак небрежения? Он долго прожил вдали от мира простых желаний и чувств, и это делало его неуверенным и нерешительным. Может быть, у завсегдатаев тихих курортов есть особый код, по которому они находят друг друга?
…Что если от него ждут следующего хода? Ребенок, встретив другого незнакомого ребенка, улыбается ему и говорит: «Давай играть вместе».
Введя в повествование три точки зрения, взаимодействующие с авторской, Фицджеральд заставляет рассказчиков дополнять друг друга, вводить в повествование ретроспективные факты.
В первой книге события почти все время даются через призму восприятия Розмэри, но в ее оценках есть некая двойственность. Все, что говорит Розмэри, принадлежит ей, восемнадцатилетней, начинающей киноактрисе. Многое из того, о чем она думает, принадлежит автору, а иногда он и непосредственно вторгается в повествование.
Так, в мысли Розмэри, безмерно восхищавшейся всем, что связано с Дайверами, неожиданно врывается отрезвляющий авторский голос, комментирующий и уточняющий чувства молодой киноактрисы и создающий «двуголосье»: «В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости Дайверов, не догадываясь, что все это далеко не так просто и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество; и так же как все прочее — простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность, предпочтение, отдаваемое простейшим человеческим добродетелям, — составляет часть кабальной сделки с богами и добыто в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в эту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса — оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмэри».
Но возникает вопрос, с кем Розмэри сравнивает Дайверов? С почти спившимся, хотя и талантливым музыкантом Эйбом Нортом? С безвольным, пассивным, чванным Маккиско? С фашиствующим убийцей Барбаном? С законченным мерзавцем Луисом Кампионом? На таком фоне даже самый обычный человек, без всякого романтического флера, обаяния и ума выглядел бы привлекательно.
К тому же, сама Розмэри, несмотря на все свое юное обаяние, уже отравлена и обществом, и собственной матерью, относящейся к ней как к капиталовложению, а весь ее природный ум «уходит» на создание той личины, которую она носит перед миром. А вскоре Розмэри и в действительности становится «новой бумажной куколкой для услады … куцей проститучьей души» Америки.
Окружение Дайверов выполняет совсем не ту роль, что толпа гостей, анонимных и безликих, в «Великом Гэтсби». И Кампион, и Мэри Мингетти, и Кэролайн Сибли-Бирс, не говоря уже об Эйбе Норте и Томми Барбане, резко очерчены, индивидуализированы — каждый в своей сфере человеческой жизнедеятельности, несут в себе определенную идею.
Фицджеральд не сосредоточивает здесь внимание на внутренней жизни одного героя, стоящего в центре повествования. Остро воспринимая конфликтную сущность действительности, он ставит своих героев в напряженные кризисные ситуации, которые оцениваются ими неоднозначно, а часто рассматриваются как неразрешимые противоречия. Фицджеральд не делает окончательных выводов, а сталкивает психологии разных личностей или же противоречия, лежащие в пределах внутреннего мира отдельной личности. У человека Фицджеральда при всей двойственности часто контрастных мотивов, при всех заблуждениях, ощутимо стремление обрести внутреннюю, «личностную» цельность. Герои его далеки от обретения такой цельности, тем более от совершенства «человеческого в человеке», но они стремятся к этому главным образом в сфере духовной жизни. Нечто подобное происходит и с героями Достоевского. Они «живо ощущают свою внутреннюю незавершенность, свою способность как бы изнутри перерасти и сделать неправдой любое овнешняющее и завершающее их определение. Пока человек жив, он живет тем, что еще не завершен и еще не сказал своего последнего слова».
Розмэри Хойт видит Дайверов, а поначалу и их окружение в романтическом свете, но действительность была иной, и Фицджеральд говорит с горькой иронией об этом не только в романе «Ночь нежна», но и в написанном в 1931 г. эссе «Отзвуки века джаза»: «На летней Ривьере все сходило с рук, и получалось, что все каким-то образом имеет отношение к искусству. В великие годы мыса Антиб, в годы 1926 — 1929 (совпадающие со временем действия романа «Ночь нежна». — В. К.), в этом уголке Франции верховодила группа людей, очень отличавшихся от того американского общества, где верховодили европейцы. На мысе Антиб занимались всем, чем угодно; к 1929 году в этом роскошнейшем на Средиземноморье уголке для пловцов никто и не думал купаться, разве что для протрезвления окунались разок среди дня. Над морем живописными крутыми уступами высились скалы, и с них, случалось, ныряли чей-нибудь лакей или забредшая сюда молодая англичанка, но американцев совершенно удовлетворяли бары, где можно было посудачить друг о друге. По их поведению чувствовалось, что происходило у них на родине; американцы размагничивались».
А на родине уже чувствовалось неуловимое дыхание «великой депрессии».
Духовный кризис начался задолго до кризиса экономического, делает вывод Фицджеральд. Не случайно такой же духовный кризис постиг Дика Дайвера в годы процветания, а его духовный крах совпал по времени с началом «великой депрессии».
В романе «Ночь нежна» большое внимание уделено «исповеди» Дика Дайвера, хотя он сам от первого лица и не говорит о своей жизни. Исповедь эта — другого рода; она выражает ход внутреннего кризиса в жизни человека с наслаивающимися ретроспекциями, ассоциациями, столкновениями не только внешнего с духовным, но и образа с образом, воспоминания с воспоминанием, иллюзии с иллюзией.
По ходу развития действия первой части романа и в особенности к ее финалу авторский центр повествования вначале неуловимо, а затем все заметнее смещается от Розмэри к Дику. А вторая книга написана как бы с точки зрения уже не Розмэри Хойт, а Дика Дайвера, и этот сдвиг выглядит естественным и логичным.
В свою очередь, книга вторая, написанная в основном с точки зрения Дика Дайвера, подготавливает читателя к следующей книге — книге Николь. Она содержит в себе несколько внутренних монологов Николь, следующих друг за другом, а их иногда прерывает несобственно-прямая речь Николь, когда она обращена к Дику.
Но переход от второй книги к третьей — контрастный и резкий, поскольку процесс «смены ролей» уже в самом разгаре. Жизненные силы все быстрее оставляли Дика и так же быстро восстанавливались в Николь. Она стала ненавидеть мир Дика не только потому, что долгое время это был единственный доступный для нее мир, но и потому, что для Уорренов были глубоко чужды законы этого мира. Поэтому выздоравливающая Николь боролась с Диком «взглядом своих небольших, но прекрасных глаз и своей непревзойденной надменностью существа высшей касты … боролась своими деньгами и своею уверенностью в поддержке сестры, недолюбливавшей его с самого начала, и сознанием того, как много врагов нажила ему появившаяся в нем непримиримость к людям, и вероломной издевкой над его былым хлебосольством; она противопоставляла свою красоту и здоровье упадку его физических сил, и свою беспринципность его нравственным принципам — даже собственные слабости служили ей оружием в этой борьбе, — она храбро дралась, пуская в ход пустые банки и склянки, ненужные уже хранилища ныне искупленных грехов, проступков и заблуждений».
Анализируя роман «По ком звонит колокол», Д. В. Затонский, в частности, пишет: «Хемингуэй сохранил одно свое отличительное свойство, которое разделяет со многими художниками XX века, а именно желание и умение смотреть на мир из перспективы героя или, если брать еще шире, из лирической перспективы вообще… И ему надо было оставить Джордана в центре — не только в центре каких-то событий сюжета, но некоей художественной вселенной, чтобы все персонажи, все конфликты, вся проблематика книги вращалась вокруг него. Потому такая «вселенная» необходимо должна была стать предельно малой, иначе он не имел бы над нею власти».
И эта мысль соотносима и сопоставима с романом Фицджеральда «Ночь нежна», в котором все конфликты, все персонажи и вся проблематика книги вращаются вокруг Дика Дайвера.
Дик Дайвер способен создать иллюзорный мир для своей жены, стать центром этого мира, его формообразующим началом. Этому микрокосму может быть присуще даже некое подобие внутренней гармонии, но только до столкновения с реальным существованием иной жизни, иного общества.
Доктору Дайверу и самому кажется, что он создал вокруг себя некий микромир. Сам он стоит как бы над этим миром, отстраненно смотрит на него, но впоследствии отстраненность исчезает. Дайвер становится непосредственно втянутым в действие, режиссер вступает на подмостки, но оказывается, что пьесу ставил не он, а кто-то другой, бесконечно ему чуждый, чьи сценические законы Дик не приемлет. Он не выделяется более, а сливается с окружением, но замечает это слишком поздно. А вскоре возникают вопросы уже совсем другого порядка: Дику предстоит решать, жить ему по законам клана Уорренов или же сойти со сцены, чтобы больше на нее не возвращаться. Дайвер предпочитает последнее. Хотя формальным поводом к его отъезду является разрыв с Николь, на самом деле, и даже Николь это понимает, Дик ждал того, что произошло, много раньше. Но случилось еще и более важное: Николь ощутила, что не только она начинает отдаляться от Дика, но и он начинает отдаляться от нее. Ведь она, выздоравливая, приобрела свою истинную сущность, «в Николь все было рассчитано на полет, на движение — с деньгами вместо крыльев», а в этом ей — выздоровевшей — мешал Дик. Недаром ее приводят в раздражение рассуждения Дика, беседующего с Розмэри об игре актрисы, а в сущности, о самой Николь: «Актрисе естественная реакция противопоказана. Еще пример: предположим, вам говорят: «Ваш возлюбленный умер». В жизни вас такое известие просто подкосило бы. А на сцене вы должны держать зрителей в напряжении — естественно реагировать они могут и сами. Как актриса, вы, во-первых, связаны текстом роли, а во-вторых, вам нужно, чтобы публика думала о вас, а не о каком-то убитом китайце, или кто он там был. А для этого необходимо сделать что-то, чего ваши зрители не ожидают…
Вы делаете то, чего публика не ожидала, пока вам не удастся снова приковать ее внимание к себе, и только к себе. А дальше вы опять действуете в образе».
После разрыва с Диком, вновь ставшая собой Николь отправилась в «полет». Показательно, что после выздоровления Николь теряет все связи с Диком и возвращается «на круги своя», сразу же забыв, чем она ему обязана. В «Великом Гэтсби» Дэзи напивается в день свадьбы и поначалу наотрез отказывается выйти замуж за Тома Бьюкенена, но, придя в себя, она уже не протестует. Нечто подобное происходит с Николь: вместе со здоровьем к ней вернулась и ее истинная сущность: «Мой дедушка был жуликом, и у меня это наследственное, вот и все». Если Розмэри Хойт выглядит в первой книге романа «воплощенной инфантильностью Америки», то Николь в последней — средоточием ее «зрелости». Она, как и Дэзи из «Великого Гэтсби», укрылась в защитной оболочке богатства, считая, что принадлежность к клану очень богатых людей равносильна вседозволенности и всемогуществу, что особенно ярко проявляется в сцене, когда Николь делает покупки. Это происходит в книге, где все события показаны глазами Розмэри, но Фицджеральду ее «оценочные» способности кажутся явно недостаточными и он берет нить повествования в свои руки. «Николь покупала вещи, не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности — это, в сущности, и орудия производства, и помещение капитала, — нет, тут было нечто в корне иное. Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки, и все быстрее двигались трансмиссии у станков: рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукроаки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими, — все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель, но при этом была полна такого обаяния, что Розмэри невольно захотелось подражать ей».
Вот когда лирико-романтический план книги начинает тесно переплетаться с критико-реалистическим.
Даже той юной, прелестной и, наверное, только из-за болезни еще почти свободной от кастовых предрассудков Николь в самом начале знакомства с Диком хотелось объяснить ему, что «она капитал и немалый». По мере выздоровления эта мысль все больше овладевает ее сознанием, ей, как и ее сестре Бэби, начинает казаться, что Дик — это просто врач, которому они хорошо платят. А потом, когда ее лицо становится похожим на книжку, «раскрытую посередине», Николь объясняет Дику, кто она такая на самом деле, дает ему возможность прочитать эту последнюю страницу. Она смотрит на Дика как на старого верного слугу: с ним, конечно, жаль расставаться, но что поделать — слишком уж он дряхлый и немощный. Если Дик не мог наблюдать со стороны распад ее личности, поскольку «это был процесс, затрагивающий и его собственную личность», то Николь далека и от сочувствия, и тем более от сопереживания. Она стала холодной, рациональной, эгоистичной и расчетливой, как и вся ее семья.
Уоррены не упускают своего не только тогда, когда нужно переступить через чью-то чужую судьбу, но способны для достижения цели рисковать здоровьем и жизнью члена клана. Резче всего это проявлялось в рассказе Николь об одном, казалось бы, незначительном, эпизоде из жизни своей семьи: «Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине — это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, в ее книжечке три танца были записаны за принцами крови — все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию».
Давно прошли те времени, когда Николь «была Диком», и она уступает Томми Барбану именно потому, что стала собой и уже не Дик, а только тень его существует в ее сознании, а уверенность Николь в себе поддерживают уорреновские миллионы.
А избранник Николь — Томми Барбан — это не просто огрубленный и более активный вариант расиста Тома Бьюкенена из «Великого Гэтсби». Барбан воплощает дальнейшее развитие фашизма. Его убеждения мало чем отличаются от убеждений Бьюкенена, но Барбан — человек действия и потому много опаснее.
Когда, внушающий в общем-то лишь презрение Маккиско высказывает единственную, положительно его характеризующую мысль о том, что если уж воевать, то воевать за тех, на чьей стороне правда, и уж никак не против Советской России или Рифской республики, Томми Барбан с легкостью, даже веселостью говорит: «Моя профессия убивать людей. Я дрался с рифами, потому что я европеец, и я дерусь с коммунистами, потому что они хотят отобрать у меня мою собственность». Хотя, как и в «Великом Гэтсби», в следующем романе Фицджеральд лишь вскользь пишет о войне, антивоенные тенденции в этом романе проступают явно и недвусмысленно: «Все хорошо видели, как между синими Невштательским и Баденским озерами тянулись друг к другу навстречу длинные поезда, набитые слепыми, безногими, безрукими — какими-то полуживыми обрубками людей. Над стойками пивных и в магазинных витринах красовались цветные плакаты на тему о защите швейцарцами своих границ в 1914 году: юноши и старики свирепо взирали с гор на маячившие внизу бледные тени французов и немцев. Эти плакаты были выпущены с целью вселить в швейцарцев воодушевляющее сознание, что и их не обошла эпидемия боевой славы тех дней. Бойня продолжалась».
О пропасти, разверзшейся между Диком и Николь (как и о том, что Фицджеральд идейно противопоставлял Дайвера Барбану), свидетельствуют и их противоположные мнения о «героизме» Томми. Если Николь сочувственно советует Барбану «перебить сколько-нибудь народу для порядка», а затем устроить себе «небольшую передышку», то Дик с горечью думает о том, что жизнь трех красноармейцев, убитых Томми Барбаном и старым белогвардейцем князем Челищевым при переходе границы, — это слишком большая цена за такой «мумифицированный пережиток прошлого», как этот русский эмигрант.
В романе «Ночь нежна» лишь несколько фраз посвящены русским эмигрантам во Франции, но они говорят о многом — о несбывшихся надеждах, о трагедии тех, кто по той или иной причине променял родину на чужбину, даже такую прекрасную, как Франция: «Русский дух был особенно силен на побережье — всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда, заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви, и запасы сладкого шампанского, — любимого напитка русских, убирались в погреба до их возвращения.
«В будущем сезоне вернемся», — говорили они, уезжая, но то были праздные обещания: они не возвращались никогда».
В роман «Ночь нежна» Фицджеральд перенес только два заключительных пункта той идейно-политической, правда, весьма расплывчатой характеристики Дика Дайвера («коммунист — либерал — идеалист») из предварительного плана, сохранившегося в записной книжке писателя. Фицджеральд также не включил в роман знаменательный сюжетный ход: после развода с Николь Дик посылает сына в Страну Советов, чтобы он там воспитывался и получил образование.
Фицджеральд не осуществил эти планы. Но замысел писателя — создать образ человека, способного восстать против «самой большой тирании в мире», в какой-то мере отразился в неоконченном романе «Последний магнат», где продюсеру Монро Стару, пусть лишь в одном эпизоде, которым и оканчивается рукопись, противостоит человек стойких взглядов, мужественный и честный коммунист (уже не «либерал» и не «идеалист») Бриммер.
Дику же не хватает силы и «крепости на разрыв» таких требовательных к себе художников, как Бранкузи, Леже, Пикассо, о чем в свое время писал автор «Ночь нежна». И не случайно Фицджеральд сравнивает центральный персонаж «Ночи» со всемирно известными художниками, ведь в романе он сам изображен скорее не как врач, а как одаренный художник, который под давлением социальных и личных обстоятельств губит свой талант, создав перед тем для Николь полуреальный, полувоображаемый мир нежности и поддержки.
Безусловно, рефлексии неотъемлемо присущи лирическому герою Фицджеральда, ,но в чем-то одном — в верности своей мечте — заключается его сила. Эта одержимость сближает героя Фицджеральда, пусть и в очень узком смысле, с героем «кодекса» Хемингуэя, для которого мужество и честь — превыше всего. В конечном счете резкое противопоставление героев Фицджеральда и Хемингуэя представляется неправомерным. У них есть много точек соприкосновения. Они, как правило, противостоят миру в одиночестве, хотя у героев Фицджеральда нет той несокрушимой силы воли, которая отличает персонажей Хемингуэя. Но и в творчестве Хемингуэя, и в творчестве Фицджеральда есть исключения, пусть даже подтверждающие правило, но тем не менее сближающие этих двух больших мастеров американской литературы. «Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал». Кем и о ком это сказано? Фицджеральдом о Дике Дайвере? Нет, эти слова относятся к писателю Гарри («Снега Килиманджаро» Хемингуэя). Гарри, как и Дик Дайвер, изменил самому себе, «загубил свой талант», начал пить, духовно обленился. Они оба женаты на богатых женщинах, уровень и образ жизни весьма схожи и оба они медленно и неотвратимо идут к, казалось бы, случайному, а на деле — логичному концу. Гарри лишь пытается играть роль «героя кодекса», но на деле — это такой же рефлексирующий герой, как и Дайвер. Да и профессия писателя Гарри и доктора Дайвера по существу совпадают. Ведь во всем, кроме нескольких эпизодов в клинике и в общении с Николь, Дайвер проявляет себя прежде всего как художник, человек искусства. Поэтому горькая автохарактеристика героя Хемингуэя вполне приложима и к образу Дика Дайвера и к образу Эйба Норта: «Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим дарованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того, чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; всегда было: я мог бы сделать».
Отношение персонажей Хемингуэя и Фицджеральда к любимому делу, к любимой женщине, их взаимодействие с реальным и идеальным характеризуют их внутренний мир. Высокое достоинство героев Хемингуэя пребывает даже не столько в столкновении с внешним миром, как в отчуждении от него. Но в «Снегах Килиманджаро» герой под влиянием как внешних, так и внутренних обстоятельств изменяет себе, изменяет «кодексу», хотя, как правило, «лирический герой писателя (пусть и несколько по-иному, чем это было у Фицджеральда) близок к персонажам американских романтиков: моральные установки, кодекс человеческого падения — законы чести, долга, верности, благородства для него столь же нерушимы, как для куперовского Натти Бампо».
Обращаясь к проблемам морали, выдвигая их на первый план, акцентируя на них внимание, как Хемингуэй, так и Фицджеральд не уходят от действительности, разоблачая буржуазное общество, антигуманное, враждебное народным представлениям о добре и зле, о справедливости и истине.
Лирико-романтическая образность, тонкий психологизм, выверенные условные приемы, ведущие к выявлению подтекста, отношений человека к определенной социальной структуре, позволяют Фицджеральду глубоко проникнуть в суть многих явлений, резко и недвусмысленно обозначить авторское отношение к изображаемому.
Романтическое бегство в прошлое является чуть ли не нормой для героев Фицджеральда. И настоящее, и даже будущее предопределяется для них прошлым. В него обращены и Джей Гэтсби, и Дик Дайвер, и Монро Стар.
Ведь для Гэтсби, по существу, прошлое является в гораздо большей степени настоящим, чем само настоящее. Он весь в плену воспоминаний и живет лишь ими («Нельзя вернуть прошлое?.. Почему нельзя? Можно!»), а настоящего как объективной данности он не приемлет, не принимает и не чувствует. И столкновение с этим «новым», почти незнакомым миром оказывается для Гэтсби роковым: «Он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверно, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву и, содрогаясь, дивился тому, как нелепо устроена роза и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но не реальный, и жалкие призраки, дышавшие мечтами, бесцельно скитались в нем… как та фантастическая шлаково-серая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев».
Таким образом, настоящее для Гэтсби не просто подменялось прошлым, но и полностью вытеснялось им. Вследствие резкого конфликта между прошлым и настоящим, объективное течение времени оказывается даже менее чем отраженным светом того, что субъективно возникает и стойко удерживается в сознании героя.
Дик Дайвер несравненно крепче, по сравнению с Гэтсби, связан с настоящим, но прошлое — столь же неумолимо, как и «великого» Гэтсби, — притягивает его к себе. И это не просто обычная человеческая потребность — вспоминать о хорошем и дурном, о счастье и горе, о друзьях и о врагах. Дело не в этом, а скорее, в желании Дика изменить настоящее путем обретения себя — того цельного человека, который когда-то был вполне реальным. Но хотя прошлое для него и не вытеснило настоящее, как для Гэтсби, он сам, точнее, все лучшее, личностное в нем — навсегда и безвозвратно осталось в прошлом. Не случайно Дик с такой горечью соотносит свое прошлое — блестящего врача, со своим настоящим — мужа богатой жены и не может понять, когда же «он себя потерял…, в какой именно час, день, неделю, месяц или год».
Мы не знаем, какие письма писал Дик Дайвер своей будущей жене в психиатрическую швейцарскую клинику после их первой короткой встречи, но несомненно одно: именно его письма помогли ей преодолеть кризис, о чем постепенно начинают свидетельствовать ее письма.
Письма больной Николь к Дику — это даже не внутренние монологи, а скорее «поток сознания», принадлежащий психически больному человеку, хотя, однако, в нем уже и наблюдаются некоторые симптомы выздоровления.
Доктор Дайвер и Николь Уоррен всерьез увлечены друг другом, и приятель Дика, психиатр Франц Грегоровиус, приходит в ужас при одной мысли о том, что Дайвер может жениться на собственной пациентке: «Жениться! И полжизни отдать на то, чтобы быть при ней врачом, и сиделкой и не знаю чем еще — ну нет! Я достаточно наблюдал таких больных. На двадцать случаев выздоровления — один без рецидивов. Уж лучше забудьте о ней навсегда». И Дик поначалу соглашается с Францем, однако чувство к Николь оказывается сильнее.
Дик Дайвер и любит Николь, и жалеет ее. Незаметно для него самого заботы о ней становятся чуть ли не смыслом его жизни, и Дик не замечает ни зловещей для него «смены ролей», ни первых признаков собственного внутреннего кризиса: «Ужасно, что такая прекрасная башня не может стоять без подпоры, а подпорой должен быть он. В какой-то мере это было даже правильно — такова роль мужчины: фундамент и идея, контрфорс и логарифм. Но Дик и Николь стали, по существу, равны и едины; никто из них не дополнял и не продолжал другого; она была Диком тоже, вошла в его плоть и кровь. Он не мог наблюдать со стороны распад ее личности — это был процесс, затрагивающий и его собственную личность». Дику трудно это осознать уже потому, что он является продуктом того же общества, которое его в конечном счете отторгает. Немалую роль в его крахе сыграли и извечные «американские» представления, внушающие личности совершенно необоснованный иллюзорный социальный оптимизм: «Когда Дик приехал в Цюрих, у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку, но все же предостаточно: то были иллюзии вечной силы и вечного здоровья, и преобладания в человеке доброго начала, — иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок, под волчий вой убаюкивающих своих младенцев, напевая им, что волк далеко-далеко».
Дик, как и Гэтсби, не уберегся от «волков» — Уорренов и Бьюкененов, более того, герои Фицджеральда сами впустили их в «дом», в свою жизнь, хотя, впрочем, любой незаурядной личности, не обладающей должным бездушием, жестокостью, безжалостностью весьма тяжело приходится на любой стадии кажущегося осуществления «мечты».
Принеся себя в жертву Николь и уорреновским миллионам, похоронив свой талант в «уорреновских сейфах», Дик отступил от своих же убеждений, убеждений, которые он настойчиво передавал жене, — что самое главное для человека, — это работа, что «человек должен быть мастером своего дела, а если он перестал быть мастером, значит, он уже ничем не лучше других, и главное, это утвердиться в жизни, пока ты еще не перестал быть мастером своего дела».
Дик Дайвер «сделал выбор — выбрал Офелию, выбрал сладкий яд и выпил его», но у современного Гамлета нет ни Горацио, ни даже Розенкранца и Гильденстерна — он остается в полном одиночестве. После смерти отца, Эйба Норта и разрыва с Николь Дик напрочь отчужден от общества и единственное, что он пытается делать, это искать спасения в себе, в своем «я», но его постигает еще одна неудача.
Возвращение Дика в Америку по существу уже ничего не решает. Это герои Купера или Торо еще могли бежать от общества к природе. В их одиночестве среди лесов и прерий не было столь глубокого трагизма, как у личности, подобной Дику Дайверу, поскольку ему бежать некуда. Моральный упадок буржуазного общества отразился и на герое Фицджеральда, уничтожив его индивидуальность, приведя его к трагическим выводам о мире, пораженном тяжелой болезнью.
В то же время доктор Дайвер «смертельно устал от своих безнадежных попыток «научить богачей азбуке человеческой порядочности», устал от карнавалов, завершающихся выстрелами на перроне или в гостиничном коридоре — развязками невидимых трагедий… И в Розмэри, «папиной дочке», так легко, естественно, победоносно шагающей по жизни, ему видится запоздалый и редкостный пример уверенности, присущей другому поколению, — тому, которое не успело узнать ни миражей «века джаза», ни его разочарований. «Природный идеалист», он воспринимает Розмэри глазами романтика, изверившегося в своем окружении, но не в самой «мечте». Дик смотрит на нее так, словно улыбка Розмэри, сияющая с экрана, — это и есть ее истинная человеческая суть. Смотрит так, как она желала бы, чтобы на нее смотрели.
Вот здесь-то драма Дика получает свое конечное завершение и объяснение. Перед нами человек, не только вынужденный к компромиссам, но как бы предрасположенный к ним самими своими особенностями «природного идеалиста», который упорно не хочет осознать вещи в их настоящем виде, выработать стойкую духовную позицию».
Конфликты моральные в романе «Ночь нежна» доведены до апогея, и за ними явственно проступают конфликты социальные. В этом произведении «отчетливо видна новая интеллектуальная основа. Роман, возможно, перегружен упоминаниями об американском фронтире и американской империи, знатных семействах Америки, американцах и американках, американских нравах, одежде, лицах и даже поездах — и у всего этого «своя неуловимая судьба». Здесь писатель не только освободился из плена прежних своих стремлений и отступил, как Ник Каррауэй, в сторону, чтобы наблюдать нравы обеспеченного класса Америки. Он вышел за пределы этого класса. И если Фицджеральду не удается передать элегантность дайверовского круга, то лишь потому, что сам он далеко ушел от него. Процесс разочарования стал процессом расторжения связей. Ибо блестящие аристократы, которых мы впервые видим глазами Розмэри, в действительности сборище праздных и несчастных экспатриантов, а что касается самих Дайверов, то их судьба — страшная история внутреннего распада». И Дик Дайвер выступает в определенной степени образом-символом, несовместимым с моральными нормами буржуазного общества, несмотря на свою собственную к нему принадлежность.
В этом романе Фицджеральд еще в большей степени, нежели в «Великом Гэтсби», склонен трактовать отношения личности и общества как трагические. «Эмоциональное банкротство» Дика Дайвера сходно и с внутренним кризисом самого Фицджеральда, особенно обострившимся в середине 30-х годов и нашедшим свое отражение на многих страницах романа «Ночь нежна».
И этот роман Фицджеральда не имел особого успеха среди читателей. За 1934 г. разошлось не более 15000 экземпляров книги, что не дало даже возможности писателю погасить свой долг издательству за полученные ранее авансы. Работать ему становится все труднее и труднее. Много сил и времени забирают рассказы, но все меньше журналов соглашаются их печатать.
А материальное положение Фицджеральда и его семьи было весьма шатким. Писатель вынужден работать буквально на износ, чтобы отдать долги, платить за частную школу, в которой училась его дочь Скотти, а время от времени — и за лечение Зельды.
В ноябре 1934 г. Фицджеральд писал Перкинсу: «За восемь месяцев с тех пор, как сдал в середине марта последнюю корректуру романа, я написал и пристроил в «Пост» три рассказа и послал им еще один, от которого они отказались, сделал два рассказа и наполовину кончил третий для «Редбук», переписал три статьи Зельды для «Эскуайра», а когда деньги стали нужны позарез, сам написал для них статью, сделал пересказ «Ночи» на 10 000 слов (он не пошел) и рассказ для Грейси Аллена (тоже не пошел), начинал и бросал, когда уже было от 1500 до 5000 слов, еще пять рассказов, дал в «Модерн лайбрери» предисловие к их изданию «Великого Гэтсби» — в общей сложности это ничуть не меньше, чем в прежние годы…
В «Редбук» идет мой цикл и мне сейчас приходится писать по рассказу каждые десять дней, а поскольку мне осталось сделать еще десять, эта работа займет месяца три с лишним — последний сдам где-то в середине февраля».
Как видим, это была настоящая поденная каторга, почти не оставлявшая времени для настоящего творчества. Фицджеральд пишет сценарии для радиопостановок — их отвергают точно так же, как и два сценария (один — по мотивам романа «Ночь нежна») художественных фильмов. Старые книги почти не переиздавались. Фицджеральд около двух лет работает над историческим романом под рабочим названием «Царство тьмы», но он так и остался неоконченным — писатель завершил лишь четыре главы.
Кроме других объективных и субъективных причин, вызвавших внутренний кризис писателя, следует назвать и его семейную драму периода «просперити», ставшую в 30-е годы трагедией.
Менее чем за полгода до смерти Фицджеральд писал дочери: «Я в твоем возрасте жил великой мечтой. Эта мечта становилась день ото дня отчетливее, и я уже мог точно сказать, чего я хочу, и заставить других прислушаться. Потом осуществление мечты отодвинулось на долгий срок. Это произошло в тот день, когда я после всех своих колебаний решил все-таки жениться на твоей матери, — хотя и знал, что она уже испорчена и что ничего хорошего мне этот союз не сулит. Первые же дни нашей совместной жизни заставили меня жалеть о том, что я сделал, но в то же время у меня не хватало выдержки и я сумел как-то приладиться, я даже любил ее — только не так, как раньше. Появилась ты, и много лет наша жизнь была счастьем. Но я превратился в человека, чья мечта недостижима; твоя мать хотела, чтобы я очень много работал для нее и явно мало для своей мечты».
Эрнест Хемингуэй писал о том, что Зельда ревновала Фицджеральда к его работе, хотя и до болезни и после нее была очень заинтересована в его гонорарах.
Американский литературовед Генри Дэн Пайпер вспоминает о словах, сказанных женой Фицджеральда Зельдой уже после смерти писателя: «Я не понимаю, почему Скотт так восставал против рассказов в «Пост», когда ему так хорошо за них платили».
Зельда чувствовала себя все хуже и хуже, а воспитание Скотти в пансионе оставляло желать много лучшего, что очень болезненно воспринимал Фицджеральд. Такова была картина краха его многих надежд.
Вскоре после выхода романа «Ночь нежна» Фицджеральд написал несколько эссе, объединенных впоследствии под общим названием «Крушение». Он долго раздумывал над тем, печатать ли их, ведь героем этих трех эссе — «Крушение», «Осторожно! Стекло!» и «Склеивая осколки» — был он сам, причем изображенный не на гребне успеха, а во время глубокого упадка.
С горечью Фицджеральд признает, что его «горизонт заволокло тучами», что он утратил свое «я» и даже «безграничную работоспособность», служившую стимулом для самоуважения. Одной из причин надлома — продолжает Фицджеральд — была утрата личностной и творческой целостности и далеко не последнюю роль в этом сыграли не только «истощенные чувства», но и то, что писатель «с необычайной легкостью отождествлял себя, свои мысли, свою жизнь с жизнью всех тех общественных слоев, которые узнавал из непосредственного общения».
Фицджеральд судит себя, пожалуй, еще строже, чем Дика Дайвера. С горечью, самоиронией писатель говорит о том, что «его мечта стать цельным человеком в традициях Гете, Байрона и Шоу» осталась неосуществленной. Косвенно он говорит и об одной из причин этого краха — он привнес в свою мечту «американский размах», пытаясь сделаться «некой смесью из Дж. П. Моргана, Топэма Боклерка и Франциска Ассизского».
Конечно, самооценка Фицджеральда была слишком уж беспощадной, что подтвердили те же поэтичные, тонкие статьи, в которых писатель вынес себе столь строгий приговор. Именно они знаменовали собой частичный выход из кризисного положения. Поэтому «Крушение» никоим образом не означало конца творческого пути Фицджеральда. Напротив, вполне вероятно, что именно собственные эссе помогли писателю осознать в какой-то мере причины «надлома», превозмочь себя и преодолеть кризис.
После затяжного периода неудач Фицджеральд вновь приступил к работе над «своей» книгой — романом «Последний магнат», и только смерть прервала ее.
«Исповедь» Фицджеральда в «Крушении», надо полагать, помогла ему вновь пробудить свои творческие силы. Написанные предельно искренне, именно эти эссе, по всей вероятности, позволили позднее прогрессивному итальянскому писателю Альберто Моравиа в эссе о творчестве выдающегося кинорежиссера Федерико Феллини по большому счету оценить (пусть это высказывание и не во всем бесспорно) несомненное мужество Фицджеральда: «Основным мотивом европейской культуры во времена Стендаля была демоничность, мужественность, молодость жизненных сил. Основным мотивом современной культуры стал, пожалуй, невроз бессилия, иначе говоря — резкое ослабление творческой деятельности, связанное с нехваткой жизненных сил. Сегодня все, в большей или меньшей степени, испытывают недостаток в жизненной энергии; особенно же страдают от этого художники, как в силу самого характера своей деятельности, так и потому, что они более чувствительны. Однако, насколько мне известно, лишь очень немногим из них удается сохранять искренность в этой одной из самых глубоких трагедий нашей эпохи. Хемингуэй, например, имя которого было синонимом мужественности и больших творческих сил, когда узнал, что он не тот мощный гигант, каким был всем известен, предпочел покончить самоубийством. Может быть, единственный, кто имел мужество смотреть в лицо действительности, был Скотт Фицджеральд».
Но в 1936 г. почти никто из друзей писателя не оценил по достоинству ни художественной ценности «Крушения», ни, как это ни странно, мужества Фицджеральда, переживавшего, пожалуй, самое тяжелое время в жизни. Среди них были и его редактор Максуэлл Перкинс, и его литературный агент Гарольд Обер, и его давний, и, пожалуй, самый близкий друг в писательской среде Эрнест Хемингуэй, посчитавший, что Фицджеральд поступил «бесстыдно», выставив перед всеми напоказ свою личную жизнь. Хемингуэй сам переживал жестокий кризис в те времена, и вышел из него, подобно Фицджеральду, опубликовав свою исповедь — знаменитый рассказ «Снега Килиманджаро» через несколько месяцев после «Крушения». В этом рассказе, совершенно неожиданно для Фицджеральда, Хемингуэй не только упрекнул своего друга в слабости духа, но и в преклонении перед богачами: «Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные и все на один лад. Он (герой Хемингуэя. — В. К.) вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.
Он (герой Хемингуэя. — В. К.) презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому, что он видел это насквозь».
Хемингуэй был неправ и в том, что Фицджеральд «сгибался под ударами жизни», и в том, что он благоговел перед богачами, и в том, что он не понял шутки Хемингуэя. Жизнь не сломила Фицджеральда и лучшее тому доказательство — блестящие страницы «Последнего магната». Об остроумной реплике Хемингуэя писатель вспомнил в своих дневниках. Что же касается реплики о богатых людях, то именно она более всего задела Фицджеральда. Может быть, эти слова Хемингуэя и были бы в той или иной степени правомерны по отношению к молодому Фицджеральду, но по отношению к автору «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна» они были попросту несправедливы и вынудили Фицджеральда написать Хемингуэю сдержанное, но недвусмысленное письмо: «Дорогой Эрнест! Пожалуйста, при первой же перепечатке убери мое имя. Если мне захотелось написать свой deprofundis, это не значит, что я тем самым созываю друзей причитать над моим трупом. Не сомневаюсь, ты сделал это для моей же пользы, но я из-за этого не мог заснуть всю ночь. Когда рассказ пойдет в книгу, очень тебя прошу снять упоминание обо мне. Рассказ хороший, один из лучших у тебя, хотя «бедняга Скотт Фицджеральд» и т. д. несколько испортили мне впечатление. Всегда твой друг Скотт.
Я никогда не испытывал благоговения перед богатыми — только в тех случаях, когда богатство соединялось у них с высшей утонченностью и достоинством».
Искренность этого письма вряд ли может вызвать какие-либо сомнения. Но правомернее всего обратиться к рассказу Фицджеральда «Молодой богач» — своеобразной притче о бездушности, искусственной изолированности, апатии «очень богатых людей», — начало которого так возмутило Хемингуэя: «Позвольте мне рассказать вам об очень богатых людях. Они не похожи на нас с вами. С самого детства они владеют и пользуются всяческими благами, а это не проходит даром, и потому они безвольны в тех случаях, когда мы тверды, и циничны, когда мы доверчивы, так что человеку, который не родился в богатой семье, очень трудно это понять. В глубине души они считают себя лучше нас, оттого что мы вынуждены собственными силами добиваться справедливости и спасения от жизненных невзгод. Даже когда им случится нырнуть в самую гущу нашего мира, а то и пасть еще ниже, они все равно продолжают считать себя лучше нас. Они из другого теста».
Таким образом, «Снега Килиманджаро» доказывают лишь то, что Хемингуэй не понял своего друга, для которого богачи действительно были особой расой, но в его понимании, и поэтому говорить об Энсоне Хантере (герое рассказа «Молодой богач») Фицджеральд может только как об «иностранце». Показательным является и замечание писателя о том, что «множество современных книг страдает от того, что их авторам явно недостает и позиции и материала, если не считать наблюдений над чисто светской жизнью. Как правило, жизнь людей не проходит на пляжах и в загородных клубах».
Эти слова, казалось бы, вступают в противоречие с творчеством Фицджеральда — ведь героями его произведений часто являются состоятельные люди, а действие происходит и в богатых особняках, и на частных яхтах, и в фешенебельных отелях, но взгляд Фицджеральда при этом почти всегда остается критическим. Характер изображаемого часто подчеркнут либо тонким подтекстом, либо прямым осуждением «людей, для которых хоть весь мир провались в тартарары, лишь бы их дом уцелел», либо авторским комментарием, таким, например, как в «Ночь нежна», где Николь, делающая покупки, изображена на фоне жизни трудовой Америки и комментарий не дает никакого повода усомниться в том, чью сторону принимает автор.
В своем эссе «Отзвуки Века Джаза» Фицджеральд, в частности, писал о буржуазной «элите», путешествующей по всему свету: «Приезжали какие-то неандертальские чудовища, которых гнало в Европу смутное воспоминание о чем-то, вычитанном в грошовом романе… Вспоминается толстая еврейка, инкрустированная бриллиантами, которая сидела за нами на спектакле русского балета и, когда поднялся занавес, изрекла «Шудесно, шудесно, надо это срисовать на картину» …В 1928, 1929 годах попадались американцы, обставлявшие свое путешествие с такой роскошью, которая только подчеркивала, что в смысле духовном самой подходящей для них компанией были бы мопсы, двустворчатые моллюски и парнокопытные». Вот уж, воистину, «богатые не похожи на нас с вами»!
«Процветание», казалось бы, вновь возродило веру в «американскую мечту», но писателю удалось разглядеть за ярким рекламным фасадом «просперити» сущность этого явления, далеко не в последнюю очередь определяющуюся полнейшей бездуховностью.
В молодые годы Фицджеральд еще «отдавал должное роскоши декораций», «атмосфере богатых особняков», но уже тогда все это казалось ему «пустым и ненужным». Теперь же, в 30-е годы, его оценка «очень богатых людей» стала недвусмысленной.
«Тлеющая» долгое время «ненависть крестьянина» вспыхнула наконец ярким пламенем. Поэтому Фицджеральд имел все основания для протеста против упоминания его имени в «Снегах Килиманджаро» как чуть ли не апологета богачей.
Между тем Фицджеральд в 30-е годы испытывал тягу к марксизму, осуждал расизм и преследование «красных» в США. Кризис 1929 г. и подъем рабочего движения в США заставили многих писателей обратить самое пристальное внимание на социальные проблемы. Осенью 1929 г. в Нью-Йорке был создан первый Джон-Рид-клаб, а к 1933 г. в США существовало более тридцати таких клубов. В жизни Фицджеральда был период, хотя и кратковременный, когда он принял участие в работе клубов, названных в честь писателя, которого сам Фицджеральд очень высоко ценил.
В одном из писем Фицджеральд спрашивал у своей дочери: «Хотелось бы знать, прочитала ли ты что-нибудь за лето — хоть одну настоящую книгу, такую, как «Братья Карамазовы», или «Десять дней, которые потрясли мир». Показательно, что наряду с романом Достоевского — одного из самых любимых писателей — Фицджеральд советует дочери прочитать эту книгу о Великом Октябре.
Фицджеральд не совсем четко представлял себе, каким в действительности должен быть революционер-марксист, но марксизм считал передовым мировоззрением. В частности, он писал своей дочери Скотти: «…конечно, ты согласишься, что марксизм это не смутная софистика, но… практическая механика материальной революции».
В записных книжках Фицджеральд называл себя «по существу, марксистом». Конечно, писатель не был марксистом, но его симпатии к «левому движению» несомненны. Фицджеральд хотел даже написать пьесу, где главным героем был бы революционер. В записных книжках писателя сохранился план этого, к сожалению, не претворенного в жизнь замысла.
В этой связи особый интерес представляют высказывания писателя о коммунистическом движении и о «красной России»: «Ты не можешь игнорировать или отрицать тот факт, что во всем мире существует организованное движение, перед которым мы с тобой не более чем песчинки», — писал Фицджеральд своей дочери.
Через несколько лет он предложил Скотти поехать в Россию с туристской группой. Антикоммунистическая пропаганда в США 30-х годов достигла своего апогея, и Фицджеральду, вероятно, хотелось, чтобы дочь увидела правду собственными глазами.
Писатель критически воспринимал американский социальный строй и в то же время с нескрываемой симпатией относился к прогрессивным силам. Эти чувства Фицджеральд, по всей вероятности, хотел внушить и дочери. Во всяком случае позиции его недвусмысленны: «Там (в колледже, куда уехала учиться Скотти. — В. К.) есть хорошо организованное левое движение. Я не очень хочу, чтобы ты думала о политике, но я не хочу, чтобы ты выступала против этого движения. Я известен, как симпатизирующий левому крылу и гордился бы, если бы и ты заняла такую позицию. В любом случае я был бы оскорблен, если бы ты солидаризовалась с нацизмом или преследованием «красных» в какой бы то ни было форме».
Политическая борьба пролетариата, влияние марксистских идей оставили заметный след в сознании Фицджеральда, о чем свидетельствует и такой совет дочери: «Когда ты почувствуешь себя очень храброй и независимой, прочитай ужасающую главу под названием «Рабочий день» в «Капитале» и увидишь, какие перемены в тебе это вызовет».
Фицджеральд не принадлежал к социалистическому крылу литературного движения, возникшего в начале 30-х годов, но важнейшие социально-политические проблемы «красных тридцатых» приобрели для него, как и для других выдающихся писателей США, очень большое значение.
Я. Н. Засурский писал об этом: «Фицджеральд пытался найти новые ценности, которые он мог бы противопоставить призрачным ценностям буржуазной цивилизации. Он читал «Капитал» Маркса, интересовался социалистическими идеями. Но они не отразились в его творчестве не только потому, что он не стал социалистом, хотя, судя по всему, сочувствовал прогрессивным движениям своего времени, но и в силу его творческой индивидуальности.
Известный американский историк литературы Уиллард Торп утверждает, что современная репутация Фицджеральда в большей степени основывается на том, что он был своеобразным историком поступков американских богачей, но если Фицджеральд и был историком, то отнюдь не беспристрастным. Фицджеральд утратил веру в буржуазные идеалы, а новых идеалов не обрел, что и определяет многие особенности его творчества и стиля, но он никогда не терял художественной зоркости и видения бессмысленности жизни американских богачей, ненависти к богатым».
Возмужавшее, изменившееся «потерянное» поколение, правда, в меньшей степени, чем в 20-е годы, можно рассматривать как некую целостность. Каждый из этих писателей обладал несомненным своеобразием, за одним исключением.
Джон Дос Пассос, опубликовав трилогию «США», издал сразу же после этого в 1937 г. «Приключения молодого человека», книгу, фальсифицирующую события в Испании.
Дальнейший путь Дос Пассоса — путь отхода от своих прежних позиций, принципов и воззрений, путь ренегатства, конформизма и отречения от прогрессивных идей и своих бывших друзей.
А ведь было время, когда Дос Пассос неуклонно продвигался по трудному для американского буржуазного интеллигента пути к революционному сознанию. Это проявлялось не только во взглядах и в общественной деятельности Дос Пассоса, но и, в решающей степени, в его новаторских художественных произведениях…
Если герои Дос Пассоса в трилогии «США» вовлечены в исторические события и художественные изобразительные средства соседствуют с документальными, и само развитие образов показано через историю, то создается впечатление, что у Вулфа сами исторические события показаны через основные образы его романов. Особенно это заметно в посмертной книге «Домой возврата нет» (1940).
В одном из писем к Максуэллу Перкинсу Фицджеральд, сравнивая свое творчество с творчеством Хемингуэя и Вулфа, в частности, писал: «То семейное сходство, которое есть между нами тремя как писателями, создается благодаря различному подчас в нашей прозе стремлению передать точное ощущение личности во времени и пространстве, отдавая для этой цели предпочтение людям перед вещами, то есть стремление скорее к тому, что делает Вордсворт, чем к тому, чего с такой возвышенной непринужденностью добивался Китс, стремление к точной фиксации через память глубоко пережитого нами опыта».
Действительно, человек оставался для всех этих писателей мерой всех вещей. Кроме того, и Хемингуэй, и Вулф, и Фицджеральд в художественных произведениях почти никогда не выходили за временные рамки своей жизни. Сейчас кажется почти невероятным, что Фицджеральд однажды попытался написать исторический роман. И он, и Хемингуэй, и Вулф были писателями, неразрывно связанными со своим временем, а глубоко пережитый опыт, художественно трансформированный, послужил основой практически для всех их произведений.
Иное наблюдается у Фолкнера. В романе «Авессалом! Авессалом!» Фолкнер создал отталкивающий, трагический и в чем-то все же величественный образ Томаса Сатпена. Сатпен, как и Гэтсби, живет одной-единственной, хотя и совершенно другой мечтой. Не только желание разбогатеть движет всеми его помыслами. Выходец из бедной семьи, Сатпен хочет стать основателем нового рода и, казалось бы, все ему благоприятствует, а препятствия он преодолевает благодаря своей энергии и жестокости.
Но Томас Сатпен «проклят», как и многие другие герои фолкнеровских саг. Из-за своих расовых предрассудков он теряет обоих сыновей, первую жену и в итоге гибнет сам.
Фолкнер наделяет Томаса Сатпена, как и Джо Кристмаса («Свет в августе») мифологическими чертами, не свойственными героям Фицджеральда, хотя, как уже говорилось, социально-этическая мифология занимает в его творчестве заметное место.
Лирико-эмоциональчая тональность, поэтичность прозы Фицджеральда, Вулфа, Хемингуэя наряду с глубокими психологическим анализом не исключала в 30-е годы и более пристального взгляда по сравнению с предыдущим десятилетием на социальные процессы внутри страны и даже на рабочее движение, а зарождение и «эволюция» фашизма неизменно вызывали со стороны этих больших мастеров осуждение, пусть и в разных формах,
Симптоматичными являются антифашистские высказывания Вулфа, появление образа коммуниста в творчестве Фицджеральда, резкий антирасистский протест у Фолкнера, участие Хемингуэя в гражданской войне в Испании, после чего появился один из его лучших романов — «По ком звонит колокол» (1940).
Роберт Джордан у Хемингуэя — не тот индивидуалист-стоик, образ которого был определяющим для писателя в предшествующие годы. Это не повзрослевший Джейк Барнс или лейтенант Генри, а качественно новый герой. Интеллигент до мозга костей, он порывает со своим окружением и едет в Испанию. Хотя Джордан воюет и не за то, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», но по крайней мере он способен разглядеть в фашизме величайшую опасность для человечества, для человеческого в человеке — в этом его сила и стойкость, на этом основываются его убеждения и элементы интернационалистического мировоззрения. Новые черты, появившиеся у героя Хемингуэя, определили его новаторское значение и для американской литературы в целом, а пристальный интерес к человеку из народа, взятого и в его социальных связях, наделенного ярко индивидуальными чертами, был значительным шагом вперед по сравнению с романом «Иметь и не иметь».
Нравственно-этическая проблематика, внутренний мир героев остаются важнейшими сферами в романах Фицджеральда 30-х годов, несмотря на кажущуюся локализацию места действия и среды. В частном, глубоко индивидуальном и даже, на первый взгляд, случайном писатель видит и общее: моральное здоровье индивида, его духовная целостность невозможны при существующей социальной системе («Ночь нежна»), а за борьбой профсоюзов против засилья киномагнатов проступают черты, характерные для всей Америки «красных тридцатых» («Последний магнат»).
К лету 1936 г. у Фицджеральда была масса долгов, но, несмотря на это, он долго не решался пойти на важный для себя шаг — принять предложение о работе в Голливуде. Писатель прекрасно понимал, какая опасность грозит его таланту.
Совсем недавно ушел в небытие «великий немой». Голливуду постоянно требовались сценаристы, способные работать в новых условиях, ведь звуковое кино изменило отношение и к построению сценария, и к производству фильма. Естественно, от сценаристов требовалось умение строить диалоги. Многое приходилось начинать с нуля. Усилия себя оправдали: звуковое кино привлекло миллионы зрителей, американская киноиндустрия заработала на полную мощность.
Подлинному искусству почти не оставалось места в голливудских студиях. Как правило, массовая кинопродукция в послекризисной Америке создавалась в соответствии с «официальной» моралью: большинство кинокартин были нравоучительными, они поддерживали мифические идеалы, превращали даже прекрасную литературную первооснову в слезливую мелодраму с обязательным счастливым концом.
Стиль Голливуда тех лет «являл собой (в своих добротных образцах) довольно причудливую смесь артистически отделанной бульварщины и скучнейшего морализма, не идущего дальше тощих прописей воскресной школы, мешанину безудержной апологии приключения, красочной авантюры и проповеди самого крохоборческого благоразумия и благомыслия. Искушая зрителя дальними странствиями, дикими цветами экзотики, этот стиль внушал: все это можно вкусить, но гнаться за этим не стоит, ибо вкусить — это значит понять, что ничего нет лучше, пусть и незавидного, но своего, домашнего очага, пусть и скучной, но улицы своего городишки. И даже сама характеристика романтической любовной пары, классических голливудских героев-любовников, этих властителей грез, отличалась сусальными стилизациями в духе мещанского морализма».
Фицджеральд говорил о том, что серьезному писателю нечего делать в Голливуде, в письме к своему литературному агенту. Не менее резко отозвался писатель о «голливудских коммерсантах» в эссе «Крушение»: «Давно еще, в 1930 году, у меня зародилось предчувствие, что с появлением звукового кино даже наиболее читаемый романист сделается такой же тенью прошлого, как немые фильмы. Правда, люди все еще читали, пусть только «книгу месяца», выбираемую профессором Кэнби; еще не перевелись любопытные, что рылись на лотках в закусочной, среди дешевых книг, которыми исправно заправлял их мистер Тиффани Тейер; но это не мешало мне болезненно ощутить унизительность и несправедливость положения, когда сила литературного слова подчиняется другой силе, более крикливой, более грубой».
Фицджеральд не без оснований считал, что роман в руках кинодельцов стал «формой», в которой слово подчинено «картинке», и он уже «способен был выразить лишь мысль зауряднейшую и чувства самые примитивные».
Но дела писателя шли все хуже и хуже. Летом 1936 г. он серьезно повредил плечо. Осенью того же года умирает его мать. Он все же пытается писать рассказы, но их не принимают журналы. И в 1937 г. Фицджеральд стал штатным сценаристом компании «Метро-Голдвин-Майер», так как не видел иного выхода из создавшегося положения. Платили ему немало — тысячу долларов в неделю, но Фицджеральд получал из этих денег меньше половины — остальное уходило на покрытие долгов.
Времени на собственное творчество почти не оставалось — его поглощал Голливуд. Фицджеральд правит чужие сценарии, шлифует диалоги, разрабатывает сюжеты, упорно работает над сценарием по «Трем товарищам» Ремарка, но продюсер Манкевич и сценарист Пэрамор подгоняют его под очередной голливудский стереотип, оставив нетронутой лишь треть оригинального сценария Фицджеральда.
Положение писателя в Голливуде становилось все более шатким, и в конце концов компания «Метро-Голдвин-Майер» отказалась возобновить с ним контракт.
Фицджеральд принялся писать серию рассказов о неудачливом голливудском сценаристе Пэте Хобби, их принимает «Сэтердей ивнинг пост», но платит во много раз меньше, чем когда-то.
Временами Фицджеральду попросту не хватало денег на жизнь. Однажды он отправил отчаянную телеграмму своему литературному агенту Гарольду Оберу с просьбой «организовать» хоть какой-нибудь аванс, потому что ему нечем платить за квартиру, и, как говорилось в телеграмме, «чтобы я мог поесть сегодня и завтра». Обер отказался, и Фицджеральда выручило лишь то, что один из «независимых» продюсеров приобрел права на экранизацию рассказа «Опять Вавилон», а также то, что ему была предоставлена хорошо оплачиваемая, хоть и временная работа опять-таки на студии «независимых» продюсеров.
Наконец-то Фицджеральд имеет возможность начать работу над задуманным уже несколько лет назад романом о Голливуде. На этот раз он пишет книгу почти не отрываясь. В рабочем плане к роману он делает пометку, ставшую руководством к действию: «Больше ни одного рассказа — не писать их вообще».
«Последний магнат» согласно предварительному плану должен был, как и «Великий Гэтсби», состоять из девяти глав и быть примерно такого же объема. Выбор главного героя — выходца из низов, сделавшего головокружительную карьеру — тоже напоминал о третьем романе писателя, о чем свидетельствует сам Фицджеральд.
В заметках к «Последнему магнату» есть такая запись: «Если одна книга может быть «похожа» на другую, я бы сказал, что роман из всех моих книг больше всего «похож» на «Великого Гэтсби».
В действительности это сходство весьма условно. Конечно, для Стара, как и для Гэтсби, и для Дика Дайвера, в «американской жизни нет вторых актов». Стар, как и Гэтсби, изображен при помощи «двойного видения», так же раздвоен и тоже несчастлив, хотя и осуществил «мечту» мальчика-рассыльного или чистильщика сапог. Но в то же время Фицджеральд впервые обращается не просто к теме «коммерческого искусства» и самой большой в мире фабрики этого искусства, но и изображает жизнь Голливуда на широком социальном фоне. Как не раз уже случалось, роману «Последний магнат» в известном смысле предшествовал рассказ «Безумное воскресенье» (1932), финал которого — гибель героя в авиакатастрофе — совпадал с планируемым финалом последнего романа Фицджеральда.
Прототипом и Майлза Кэлмена из «Безумного воскресенья», и Монро Стара — последнего магната — послужил голливудский продюсер Ирвинг Талберг. Талберг сделал головокружительную карьеру — за восемь лет он прошел путь от мелкого клерка до вице-президента компании «Метро-Голдуин-Майер». Именно под его руководством «МГМ» вскоре стала олицетворением Голливуда — наиболее богатой, большой и известной кинокомпании мира.
Фицджеральд познакомился с Талбергом еще в 1927 г. и впоследствии, особенно во время работы в Голливуде, неоднократно с ним встречался. В начале работы над «Последним магнатом» Фицджеральд наделил своего центрального персонажа, как и Майлза Кэлмена из «Безумного воскресенья», многими чертами, присущими Тальбергу, но со временем сходство это заметно уменьшилось. Впрочем, портрет этот «скрытый», непрямой, переосмысленный, имеющий такое же опосредованное отношение к оригиналу, как главный герой повести Хемингуэя «Старик и море» к старому кубинскому рыбаку Мигелю Рамиресу, или Брет Эшли к Дафф Твисден.
Майлз Кэлмен из «Безумного воскресенья» психически неуравновешен, болезнен (реальный Талберг также не отличался крепким здоровьем и умер, когда ему было всего тридцать шесть лет), но он действительно талантливый режиссер. Монро Стар тоже талантлив, но он уже не режиссер, а продюсер, раздвоенный между творчеством и бизнесом.
Как и «Великий Гэтсби», последний роман Фицджеральда написан от первого лица. Рассказчица — дочь голливудского продюсера и соперника главного героя Сесилия Брейди — влюблена в Монро Стара, видит его, как и Розмэри Хойт Дика Дайвера, в романтическом свете. Но не ее восхищение служит первоначальной «установкой», накладывающейся на последующие события, разворачивающиеся в книге.
Стар отказывает в помощи бывшему главе одной из кинофирм Мэнни Шварцу, и тот кончает с собой, но перед смертью пишет записку, в которой не только не обвиняет Стара, но и восхищается им. Более того, Шварц предостерегает «магната» от грозящей тому опасности. Поэтому самоубийство Шварца не только не оттолкнуло Сесилию от Стара, но и заставило ее еще больше заинтересоваться им.
Когда Сесилия Брейди участвует в действии, она «не знает», что произойдет в следующий момент. Однако при «отступлениях» Сесилия уже обладает «абсолютным» знанием происшедшего.
Планы и заметки Фицджеральда к написанным трем главам «Последнего магната» свидетельствуют, что в одной из финальных сцен писатель намеревался точно обозначить, где и когда Сесилия Брейди ведет повествование. По его замыслу, Сесилия заболевает туберкулезом и попадает в больницу, откуда через пять лет после смерти Стара и ведет рассказ. Становится ясным, что она, подобно Нику Каррауэю, то переносится назад во времени и участвует в действии так же, как и другие герои, то, «выходя из действия», демонстрирует свое «абсолютное» знание происходящего, то — в конце романа — окончательно становится рассказчиком, повествующим о прошлом.
Сюжет нового романа Фицджеральда вновь весьма тривиален. Стар влюбляется в Кэтлин — женщину, разительно похожую на его покойную жену, она тоже любит его, но тем не менее выходит замуж за другого. Стар показан Фицджеральдом в процессе работы над фильмом, в отношениях с подчиненными, с продюсерами, со своим антиподом — коммунистом Бриммером. Сюжетная линия должна была развиваться немного динамичнее в ненаписанных заключительных главах. Однако остались заметки, позволяющие судить о том, как писатель хотел окончить роман. Впрочем, планы писателя в ходе работы нередко менялись, примером может служить история написания романа «Ночь нежна». И все же план Фицджеральда представляет определенный интерес.
«Действие — это характер», — писал Фицджеральд в заметках к «Последнему магнату». И этот принцип навеян не «безличной» прозой Флобера, а, скорее, «косвенно-ассоциативным» способом отражения действительности, присущим в той или иной степени Чехову и Шервуду Андерсону. Так, Чехов в свое время отмечал, что, по его мнению, лучше всего избегать описывать душевное состояние персонажей. Главное — чтобы оно было понятно из действия героев.
Подобных принципов придерживался и Фицджеральд при работе над «Последним магнатом», о чем писал в плане к незавершенной части романа.
После встречи с Бриммером Стар едет на восток. Его деловое соперничество с Брейди, их расхождения достигают критической точки. В отсутствие Стара отец Сесилии снижает ставки сценаристам и даже самым низкооплачиваемым работникам студии — стенографисткам, декораторам и т. д. Вернувшись в Голливуд, Стар, хотя и возражает Брейди, но ставки все же остаются пониженными. После этого «красные считают его консервативным, а Уолл-Стрит — красным».
Брейди — типичный представитель «коммерческого» кинобизнеса — пытается отстранить Стара от руководства студиями, шантажирует «магната», даже находит мужа Кэтлин и разжигает в нем чувство ревности, а затем попросту готовит убийство конкурента. Стар же, хотя и оказался в стороне от борьбы между продюсерами и профсоюзами, остается в одиночестве: ему не доверяют ни те ни другие.
Узнав, что Брейди собирается убить его, Стар пытается опередить врага, но ему претят методы Брейди, и он хочет остановить гангстерскую «машину убийств». Сделать это уже Стар не успевает. Как и Майлз Кэлмен, он гибнет в авиакатастрофе, а вскоре наемные гангстеры убивают и Брейди. Похороны Стара, как и похороны Гэтсби, по замыслу Фицджеральда, должны были символизировать продажность и лицемерие его окружения и — шире — всего буржуазного общества.
Конечно, эта схема не дает представления о завершенном романе. Можно лишь предполагать, как Фицджеральд собирался описать борьбу профсоюзов против кинодельцов, изобразить трагедию человека, раздвоенного между искусством и бизнесом. Главные, ключевые эпизоды остались вне шести завершенных глав романа. Но все же «Последний магнат» показал, «что в лице Фицджеральда американская литература потеряла прозаика, еще далеко не исчерпавшего мощь своего таланта».
Первые же страницы «Последнего магната» свидетельствуют о том, что Фицджеральд не остался равнодушным к мощному демократическому движению «красных тридцатых». Буквально в нескольких словах писателю удалось показать и накал классовой борьбы того времени, и то, как власть имущие были напуганы подобным развитием событий в стране. Все это изображено опосредованно. Сесилия Брейди летит в самолете и разговаривает со стюардессой. Они обмениваются мнениями — нет, не о самом кризисе, а о реакции на него знакомых им людей. И выясняется, что знакомые Сесилии и стюардессы — актрисы, режиссер и юрист чувствовали одно и то же — страх перед социальной бурей. Их всех на поверку страшила даже не мрачная перспектива «стать нищими», но революция. И планы на случай революции были у них до смешного похожими, и Фицджеральд пишет об этом с нескрываемым сарказмом. Так, актриса сообщает по секрету стюардессе: «Мы укроемся в Иеллоустонском заповеднике и будем жить там простенько, пока все не утихнет. А тогда вернемся. Не убивают же они артистов?»
Этот замысел меня (Сесилию Брейди. — В. К.) позабавил. Вообразилась прелестная картинка: бурые медведи — добряки и консерваторы — снабжают медом актрису с мамой, а ласковые оленята приносят им от ланей молоко и, напоив, пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье».
Здесь мы наблюдаем тот же прием, что и в романе «Ночь нежна», где Фицджеральд столь же незаметно «одалживает» свои собственные мысли Розмэри Хойт, такой же юной и наивной, как и Сесилия Брейди.
Сесилия в свою очередь рассказывает безымянной стюардессе о юристе, припрятавшем лодку на реке Сакраменто, чтобы на месяц — другой подняться в верховья, с тем чтобы потом вернуться, «поскольку после революций всегда требуются юристы, чтобы урегулировать правовой аспект», а также о режиссере, припасшем старую одежду, для того чтобы «Раствориться в Толпе».
Даже этот небольшой эпизод убедительно свидетельствует о том, что, с одной стороны, легенда об «аполитичности» Фицджеральда, выдвинутая некоторыми американскими литературоведами, не выдерживает никакой критики, а с другой — не оставляет никаких сомнений в том, кому же на самом деле симпатизировал писатель.
Портретами Фицджеральд не злоупотребляет, но, если это необходимо по ходу действия, он создает их одной — двумя фразами, как правило, очень емкими. Вот как, например, описывает себя, и это тоже ход, в некоторой мере условный, Сесилия Брейди: «На востоке занималась заря, и я видна была Уайту отчетливо — худощавая, изящная, неплохие черты лица и бьющий ножками младенец-мозг».
Снова уж слишком образно высказывается Сесилия Брейди, когда ее спрашивают о том, как Стар стал Старом: «В юности он взлетел на крепких крыльях ввысь — и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая смотреть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец яростным усилием крыльев он продержался так долго — немногим удается это, — и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю».
Но этот «романтический» и «величественный» образ незадолго до того заземлен репликой Стара-бизнесмена, без всякого смущения говорящего одному из своих сценаристов: «Я делец. Покупаю продукцию твоего мозга».
В то же время Стар, как и традиционный романтический герой, весьма одинок. И хотя он, казалось бы, предельно связан с настоящим, все его помыслы отданы кинобизнесу, Фицджеральд и его сталкивает с прошлым: «Стар не отвечал. С расстояния двух шагов на него, слабо улыбаясь, смотрело лицо умершей жены — и хоть бы в выражении была разница! Сквозь лунный промежуток в два шага глаза смотрели знакомо, от ветра шевелился локон на родном лбу; она все улыбается — теперь слегка иначе, но тоже знакомо; губы приоткрылись, как у Минны. Страх, трепет пронизал Стара, он чуть не вскрикнул. Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин-катафалк, приглушенно скользящий, роняющий цветы с гроба, — и оттуда, из мрака снова явилась, теплая, светлая!».
У Стара, как и у Гэтсби, возникло ощущение, что прошлое возвращается. Потеряв горячо любимую жену, Стар через три года встречает Кэтлин Мур, чтобы полюбить, быть любимым, но тем не менее расстаться с ней, так как он, нувориш, выходец из гетто, парадоксальным образом считает себя выше этой женщины, принадлежащей к средним слоям. У Стара возникает недовольство настоящим, смутное чувство неравенства своего возможного союза с Кэтлин, за которым явственно ощутим и социальный подтекст.
Таким образом, романтическое бегство персонажа в прошлое — не просто ретроспекции или воспоминания, но и важное средство изображения эволюции героя, межличностных связей.
Тема «двойничества», возникшая в «Последнем магнате», имела важнейшее значение для трагического мировосприятия таких выдающихся романтиков, как Гофман и Эдгар По. В то же время традиция «готических ужасов» не нашла своего отражения в творчестве Фицджеральда, как, скажем, в творчестве Фолкнера. Но процесс деградации американского общества, мастерски воссозданный великим американским романтиком, продолжал волновать как Фицджеральда, так и Фолкнера. Исключительные обстоятельства, влекущие за собой предельное напряжение духовных сил героев, мастерский психологический анализ позволяют полно и масштабно изобразить внутренний мир героев, дать «срез» сознания человека, обусловить тот или иной поступок, влияющий на его последующую судьбу.
Но мотив «двойничества» Фицджеральд использует не так, как По. Если По оперировал общечеловеческими категориями в области морали, то Фицджеральд, несмотря на всю его сконцентрированность на морально-этических проблемах, все же рассматривает их как следствие проблем социальных.
В Америке ширилось демократическое движение, что нашло свое отражение и на страницах «Последнего магната». Так, старая секретарша одной из студий кинокомпании Монро Стара «завела такой обычай: если замечено, что машинистки раза два на неделе обедали вместе, всей стайкой, то тут же вызывать их для строгого внушения. В то время на студиях боялись «народных волнений».
Показательным для «красных тридцатых» является и другой эпизод из «Последнего магната». Бывший русский князь становится «по убеждениям красным», стыдится своего прошлого и даже отказывается играть роль… старого русского князя в одном из кинофильмов.
Таким образом, писатель не просто проецирует традиции американского романтизма на современное ему американское общество, но и преобразует их, сообщает им новое содержание.
Сначала кажется, что Фицджеральд в определенной степени идеализирует своего героя. И дело даже не в сравнении с Наполеоном, а в том, что писатель совершенно искренне считает Стара едва ли не защитником интересов рабочих и служащих своей фирмы: «Он откликался, взмахивая рукой в ответ им, проходящим в сумраке, и это, я думаю, слегка напоминало встречу Императора со Старой Гвардией. У всякого мирка непременно свои герои, и Стар был герой киномира. Эти люди в большинстве своем работали здесь от начала, испытали великую встряску — приход эры звука — и три года кризиса, и Стар оберегал их от беды. Узы верности рвались теперь повсюду, у колоссов обнаруживались и крошились глиняные ноги; но Стар по-прежнему был их вожак, последний в своем роде. И они шли мимо, приветствуя его — как бы воздавая негромкую почесть».
А чего стоит хотя бы такое определение: «В киноделе Стар был путеводным маяком, подобно Эдисону и Люмьеру, Гриффиту и Чаплину». Но на студии Стара, помощника продюсера, всего-навсего администратора и последователя великих изобретателей и режиссеров, за проступок понижают в должности, переводя на работу чисто творческую — на работу сценариста! Хотя понятие «творчество» по отношению к сценаристам весьма и весьма относительно.
Стар не только организовал киноконвейер. Он еще и поручал нескольким группам сценаристов разработку одной и той же идеи. Затем все разработки сводились воедино и получался сценарий-винегрет. Когда же два сценариста — муж и жена — запротестовали, Стар, убеждая их вновь приступить к работе, признал, что такая система «позорная», «грубая, прискорбно коммерческая». Далее следует ироничный комментарий писателя: «Он не упомянул лишь, что сам ее создал».
Фицджеральд несколько романтизирует своего героя, но что он вовсе не романтизирует, так это систему предпринимательства, дух бизнеса, царящий на «фабрике грез».
Одного из режиссеров — Реда Райдингвуда — всемогущий Стар отстранил от съемок, но ему нельзя даже отвести душу, поругаться — со Старом не поругаешься. О разногласиях с ним шуметь невыгодно. «Заказчик всегда прав» — а в киномире всегда, почти без исключений, прав Стар».
Стар прежде всего делец. И запуская заведомо убыточную, но «настоящую» кинокартину, «магнат» не думает о высоком искусстве, которому не грех принести в жертву твердые доходы; он надеется, что этот фильм поднимет престиж фирмы и, соответственно, привлечет новых зрителей.
Даже в споре с другими продюсерами, требовавшими изменить концовку «Манон Леско», придать фильму «хэппи энд», Стар «решительно возражал», но не потому, что он бережно относился к первооснове, а потому, что «вот уже полтораста лет «Манон» делает деньги и без счастливого конца».
Отец Сесилии Брейди называет своего компаньона и соперника «чертовым мессией голливудским», даже не подозревая, насколько он прав. Только Стар предвосхищает не пришествие Христа, а того феномена, который впоследствии получит название «массовой культуры».
Стар, хотя и не выносит дешевку, ремесленные поделки, но вынужден мириться с ними, если они сделаны добротно, во имя бизнеса, на котором зиждется вся система кинопроизводства США. Хотя, собственно, его личный вкус и знания тоже оставляют желать лучшего.
Дело даже не в том, что Стар не получил образования, а в его удивительном невежестве. Поначалу, когда он с улыбкой говорит об Эсхиле, Эврипиде, Аристофане и Менандре, как о греческих кинематографистах, создается впечатление, что это попросту шутка или же эпатаж. Но когда разговаривающий с ним оператор, грек по национальности, упоминает еще Дельфийского оракула и Эдипа, а Стар в ответ сожалеет, что он не получил необходимого образования, а поэтому попросту не понимает собеседника, оказывается, что и первая его реплика вовсе не была шуткой.
Вспомним, что для Дика Дайвера его роль — центра замкнутой «модели» — «американизированной Ривьеры», по крайней мере в первой части романа, становится более важной, нежели его человеческая сущность. В том-то и состоит его преступление перед собой, что он позволил «роли» подавить сущность, фактически они в Дике поменялись местами. Подобное наблюдаем и в «Последнем магнате»: «Стар — вождь, ведущий долгую войну на много фронтов. За десять лет Стар, почти в одиночку, резко продвинул кинодело вперед, и теперь фильмы «первой категории» содержанием были шире и богаче того, что ставилось в театрах. Художником Стару приходилось быть, как Линкольну генералом — не по профессии, а по необходимости».
Правда, если Дик Дайвер со своей «ролью» принадлежит к миру иллюзорному, то Монро Стар к самому что ни на есть реальному, хотя и в этом случае смешивается роль героя и его сущность, а сущностью Стара является, несмотря на оговорки, его талант художника. Впрочем, Стар так «вошел в роль», сумел так подавить свою истинную сущность, что даже не подозревает о ее существовании: «Нет, я теперь главный клерк, — сказал Стар. — Если в чем мой талант, то именно в этом. Но, вступив в должность, я обнаружил, что никто не знает досконально, где что. И при этом надо знать не только, где что лежит, но и почему оно там, и не надо ли его переложить. На меня все начали наваливать — сложнейшая оказалась должность. Вскоре мне передали все ключи. И верни я их сейчас, никто уже не знал бы, от какого замка какой ключ».
Платой за головокружительную карьеру бизнесмена оказалась почти полная потеря своей собственной сущности, роль оказалась столь крепко связанной с человеком, что он и не помышлял уже ни о чем другом.
Благодаря этой трагической раздвоенности Монро Стар резко отличается от своего компаньона Брейди, который довольно точно охарактеризован в рассказе Сесилии: «Таланты отца сводились, в основном, к практической сметке. Благодаря ей и своему везению он заполучил четвертую часть доходов в процветающем и шумном бизнесе — и стал компаньоном молодого Стара. В этом заключается подвиг его жизни, а дальше уж простой инстинкт не давал сорваться. Конечно, в деловых беседах на Уолл-Стрит отец умел напустить туману насчет загадок фильмопроизводства, но сам не смыслил ни аза в монтаже, а тем более в перезаписи. Да и проникнуться с юности духом Америки трудно, служа подавальщиком в баре ирландского городка Баллихигана, а чувство сюжета было у отца не тоньше, чем у коммивояжера-анекдотчика».
Стар прекрасно разбирается в специфике кино, драматургии, но то, что он отстаивает, это тоже развлекательная кинопродукция, пусть и выполненная на профессиональном уровне. При всем том его мысли о тональности фильма весьма интересны и схожи с творческими установками самого Фицджеральда. Это сам писатель, а не Монро Стар или же Ирвинг Талберг, считал, что «раз общий тон установлен, то каждая строка и каждое движение должны работать на его создание». Сходные мысли можно найти в письмах писателя Максуэллу Перкинсу.
Один из сценаристов Стара — Уайли Уайт — изобразил в своем сценарии стенографистку, с восхищением относящуюся к своему боссу. После нескольких замечаний Стара Уайли сам обнаружил свою же ошибку, которая носит не столько художественную, сколько политическую окраску: «Видишь ли, Монро, по-моему, стенографистка уже не может относиться к боссу с тем же телячьим восхищением, что в двадцать девятом году (до экономического кризиса. — В. К.). Ее с тех пор увольняли, босс у нее на глазах паниковал. Словом, мир изменился».
Но Стар не принимает этого логичного объяснения. Ему-то как раз и надо, чтобы девушка в сценарии, а впоследствии и на экране, вела себя именно так, как и в двадцать девятом году. Он требует, проявляя трезвую сметку и недюжинную хватку, чтобы люди, работающие над этим фильмом, создали очередную елейную историю, лубочную картинку во имя финансового успеха, в духе все той же пресловутой «американской мечты». Но не следует думать, будто все это остается вне зрения писателя. Фицджеральд сразу же переносит внимание на внутренние чувства Уайли Уайта: «Уайли ощущал в себе сейчас большую целеустремленность. Прозвучавшие в речах Стара здравомыслие, сценическая выдумка, умное чутье в смеси с полунаивной концепцией всеобщего блага — все это зажгло Уайта желанием внести и свою долю, положить и свой камень в кладку — даже если труд заранее обречен, а результат будет уныл, как пирамида».
Вероятно, даже само название романа «Последний магнат» ввело в заблуждение многих литературоведов Запада, считающих, что Фицджеральд лишь восхищается Старом. Дело обстоит сложнее. Образ Стара заключает в себе черты, сходные с «величием» Гэтсби и, казалось бы, взаимоисключающие друг друга. Поэтому «Стару… предстоит осознать для самого себя реальность, от которой он, пленник «великой иллюзии», пленник жизни «поверх» реальности, стремился отгородиться, поставив во главу угла интересы «дела» — и только эти интересы. Фицджеральд понимал, что трагедия, поджидающая его героя, неотвратима. Но многое пересматривая в эти годы, двигаясь «влево», подобно многим американским писателям его поколения, Фицджеральд понимал и другое. Он чувствовал, что подземные толчки эпохи, насыщенной острейшими социальными антагонизмами, той эпохи, какой были 30-е годы, разрушают все и всяческие иллюзии для того, чтобы расчистить площадку, на которой человеку, быть может, суждено строить свою жизнь заново, в согласии с нравственной правдой и гуманным идеалом. Он различал эти подземные толчки обостренным чувством художника, и они отозвались в последней книге Фицджеральда, придав ей особое значение в его творчестве».
В «Последнем магнате» Фицджеральд чутко уловил новые веяния политической жизни США. Всемогущество Стара на поверку оказывается далеко не абсолютным. Как человек и делец, чутко реагирующий на все новое, он видит реальную силу в профсоюзах и коммунистах и поэтому, чтобы лучше понять мощное рабочее движение, угрожающее благополучию буржуазии, он просит Сесилию Брейди помочь ему встретиться с одним из коммунистов, желательно не рядовым, а организатором, руководителем, пропагандистом. Стар тщательно готовится к этой встрече. Но его невежество в политике столь же разительно, как и его невежество в литературе и искусстве. Чтобы понять основы коммунистического движения, его теорию и практику, Стар, ничтоже сумняшеся, просматривает несколько «русских революционных лент», а также фильмы «Доктор Калигари» и «Андалузский пес» известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали и считает себя достаточно подготовленным к разговору с одним из «организаторов» Коммунистической партии США, точно так же, как в свое время, прочитав двухстраничный конспект «Манифеста коммунистической партии», считал, что знаком с марксизмом.
Коммунист Бриммер, пожалуй, единственный персонаж романа, к которому писатель относится с нескрываемой симпатией. И дело даже не во внешнем портрете — лицо Бриммера было «тверже, осмысленней, выразительней», чем у выдающегося актера Спенсера Трейси, — но в том, что Фицджеральд изображает нью-йоркского коммуниста, сотрудника органа компартии США — журнала «Нью мессиз» убежденным борцом, имеющим ясные и благородные цели. Такой убежденности и тем более высокой цели нет, да и не может быть у Монро Стара. Примечательно, что Бриммер одерживает безусловную победу над Старом не только в словесном поединке, но и в борьбе идей, лишает Стара привычного внутреннего равновесия, и киномагнат не находит ничего лучшего, чем вступить с Бриммером в драку. Но и из нее Стар выходит побежденным, а Бриммер произносит символическую фразу: «Я всегда мечтал, чтобы на мой кулак напоролись десять миллионов долларов, но не предполагал, что выйдет таким образом».
В разговоре с Бриммером Стар вновь выступает защитником своего класса, вновь романтик уступает место дельцу: «Приходится вести непрерывное сражение. В тот период мы навербовали на Востоке целый взвод сценаристов, и я считал их славными ребятами, пока они не превратились в красных». А Бриммер видит силу Стара-дельца не только и не столько в его несомненных способностях финансиста-кинофабриканта, а прежде всего в его умении быть на дружеской ноге со всеми, начиная от рассыльного и кончая режиссером, соблюдать видимость справедливости в отношениях с ними, на самом деле твердо насаждая то, что ему необходимо. Но это уже скрытый, по крайней мере на первый взгляд, пласт — поэтому Стар пользуется популярностью и даже любовью. Но одна-единственная реплика Бриммера снимает маску с Монро Стара и ставит все на свои места: «Говоря откровенно, мистер Стар, мы видим в вас помеху именно потому, что вы предприниматель отеческого толка и ваше влияние очень велико». Бриммер довольно точно трактует и классовый характер отношений между Старом и легионом его сценаристов, проводит интересную параллель: «Фермер растит хлеб, а праздник урожая — для других. У сценариста на продюсера та же обида, что у фермера на горожанина».
Фицджеральд в «Последнем магнате» был на подступах к тому, что осуществил, пусть и частично, Уильям Фолкнер в своей трилогии о Сноупсах, к изображению силы, способной противостоять буржуазной морали, миру «очень богатых людей». Гораздо раньше, чем фолкнеровский Бартон Коль, в творчестве Фицджеральда появляется образ коммуниста Бриммера, и важность этого факта несомненна.
Монро Стар для Фицджеральда не только делец, не только голливудский продюсер, но еще и по-своему обаятельный человек. Тем более знаменательной представляется заключительная сцена, подчеркиваем, незаконченного романа Фицджеральда, в которой симпатии Фицджеральда принадлежат уже не Стару, а Бриммеру.
В «Последнем магнате» Фицджеральд довольно детально описывает Голливуд. Писателя интересуют не только нравы, царящие на киностудиях, но и все процессы съемки фильмов. В этом романе Фицджеральд показывает знаменитую кинофабрику в действии, незаметно проводя читателя через все стадии производства фильмов, от создания сценария и подбора актеров до окончательного просмотра ленты в кабинете продюсера. И общее впечатление, возникающее у нас, постепенно начинает приобретать несколько зловещий характер. Огромная и могучая, безжалостная и расчетливо использующая человеческие слабости в масштабах большой индустрии «фабрика грез» медленно встает перед нами во всем ее многообразии. Бизнес здесь тесно смыкается с идеологией — ведь продукция Голливуда представляет собой важнейшую часть духовной культуры США. А потому конфликт духовного и грубо материального начал в американской жизни, уже давно привлекший к себе внимание Фицджеральда, раскрыт в романе с особым драматизмом.
На столкновении иллюзий и действительности, мира воображаемого и мира реального построен и весь фильм выдающегося кинорежиссера Федерико Феллини «8 ½», в котором, казалось бы, неожиданно, возникает имя Фицджеральда.
Гуидо Ансельми, художник, который во многом походит на самого Феллини, находится в жестоком творческом кризисе, но пытается найти из него выход, превозмочь себя. Второе «я» есть в этом фильме не только у Федерико Феллини, но и у Гуидо Ансельми — это умный, рассудочный негативист Домье, скептически относящийся ко всему в искусстве, подвергающий сомнению любую ценность. Но единственное исключение, единственный по-настоящему великий художник даже для Домье — это Френсис Скотт Фицджеральд.
Даже если сам Феллини до того и не читал Фицджеральда и ничего не знал о его жизненном и творческом пути (а Феллини часто эпатирует читателей итальянской периодики заявлениями о том, что он читает крайне мало), то его многолетний соавтор, один из образованнейших людей современной Италии Брунелло Ронди, кстати, послуживший прообразом Домье, был, безусловно, знаком с творчеством Фицджеральда. Поэтому нам представляется, что имя Фицджеральда промелькнуло в фильме Федерико Феллини далеко не случайно. Оно в «8 ½» символизирует мужество художника с трагической судьбой, но все же не сломленного буржуазным обществом, хотя он и находится на грани крушения и ему кажется, что он уже потерпел полное и окончательное поражение.
О близости Федерико Феллини к творчеству Скотта Фицджеральда, в частности к роману «Ночь нежна», пишет и А. Старцев: «Сцены разгула и человеческого падения в романе Фицджеральда — Эйб Норт в баре Ритца, пьяная драка Дика Дайвера в Риме, арест Мэри Мингетти и леди Кэролайн Сибли-Бирс на Ривьере, богатые дегенераты в швейцарской клинике — своей едкой горечью и в то же время проницательной силой заставляют новейших читателей Фицджеральда сопоставлять «Ночь нежна» с появившейся четверть века спустя «Сладкой жизнью» Федерико Феллини. Ощущение, что речь идет о чем-то более крупном, чем судьбы героев романа, не оставляет читателя и заражает его глубокой тревогой. Феллини однажды уподобил свой фильм фреске, изображающей кораблекрушение. Сходное чувство вызывает и «Ночь нежна». Книга написана о моральном крушении буржуазного мира».
Положение художника в этом мире метафорически изображено и в своеобразном прологе к фильму Феллини «8 ½».
Огромный автомобильный затор — гротескно-фантастический, как в рассказе аргентинского писателя Хулио Кортасара «Южное шоссе». Люди в машинах разделены, разобщены. В одном из автомобилей человек вдруг начинает задыхаться. Он дергает дверцу, пытаясь вырваться из ловушки, а из других машин за ним наблюдают люди даже без особого любопытства и без всяких эмоций.
Но человек выбрался на крышу автомобиля и… полетел. Но полет длился недолго: с земли брошен аркан, обвивший ногу летящего, и он падает вниз.
Стоит ли доказывать, что столкновение низменного с возвышенным, и реального с воображаемым, и эта метафора — художник и общество, и потребность Феллини в «лиризме», в откровенном самораскрытии, напоминают как по тональности, так и по замыслу и лучшие романы Фицджеральда, и эссе «Крушение», и трагический жизненный путь американского писателя. Если же принять во внимание и то, что буржуазная система пыталась убить в Фицджеральде «любовь к полетам», то нельзя не вспомнить пусть и не слишком точный и справедливый, но поэтический, пронизанный болью за своего бывшего друга приговор-эпитафию Хемингуэя из «Праздника, который всегда с тобой»: «Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко ему леталось когда-то».
Безусловно, доля истины в суждениях Хемингуэя о Фицджеральде была. Не стоит, однако, полагать, что Фицджеральд был единственным значительным писателем США, предлагавшим проходные вещи американским журналам или заключившим контракт с Голливудом, чтобы поправить свои материальные дела. На «фабрике грез» в 30-е годы работал Уильям Фолкнер, серию фельетонов для журнала «Эскуайр», многие из которых не представляют художественной ценности, написал тот же Хемингуэй. В письме к И. Кашкину от 19 августа 1935 г. Хемингуэй, в частности, заметил: «Между делом пишу всякую всячину в «Эскуайр», чтобы прокормить себя и свою семью. Они там вперед не знают, что я им напишу, и получают рукопись накануне сдачи номера в набор. Бывает лучше, бывает хуже. Я затрачиваю на это каждый раз не больше одного дня и стараюсь, чтобы это было интересно и правдиво. Во всяком случае, без каких-либо претензий».
Конечно, кризис, постигший Фицджеральда, затянулся. Однако в то же время вряд ли он может быть сопоставим по своему трагизму и глубине с «упадком духа» других американских художников. Впрочем, «образ», «легенда» Фицджеральда, статьи «Крушения» укрепляли даже его друзей во мнении, что он — конченый писатель. Однако это было далеко не так, о чем неопровержимо свидетельствуют лучшие страницы «Последнего магната».
«Легенда» о Фицджеральде-гедонисте, прожигающем жизнь и лишь время от времени садящемся за письменный стол, ныне ушла в прошлое. «Если вспомнить, что человек этот, проживший на свете сорок четыре года, оставил четыре романа, осязаемую часть пятого, быть может, самого сильного, более полутора сотен рассказов, автобиографических эссе, — и большая часть этого — настоящая литература, — то о чем же, кроме свершений, может идти речь?» — писала И. Левидова, и с этим утверждением трудно не согласиться.
В 30-е годы, несмотря на ряд творческих неудач, на личные трагедии, Фицджеральд проявил себя как тонкий художник и зоркий социальный критик. К концу своего творческого пути он «все активнее осознавал для себя масштабы и значимость социальных конфликтов «красного десятилетия», и коммунист Бриммер — совсем не случайная фигура в его последней книге. Не случайна и сразу же обращающая на себя внимание резкость, определенность, с какой в «Последнем магнате» сказано о том, как далека от норм подлинной гуманности вся система ценностей буржуазного мира и как иллюзорны сами эти ценности, определившие миропонимание и этику людей, на них воспитанных».
Фицджеральд в романах «Последний магнат» и особенно «Ночь нежна» сосредоточивался на изображении внутреннего мира человека, не отказываясь полностью и от бальзаковской традиции изображения «внешнего мира». Разрушительная сила системы, пораженной смертельной болезнью, часто раскрывается через мораль и психологию отдельной личности. Раскрытие психологии героев осуществлено Фицджеральдом не только «внешне», через действия персонажей, через «точки зрения», включая авторскую, но и благодаря подтексту, «тайне», «двойственности» героев, «скрытым» процессам, происходящим в их внутреннем мире.
Несмотря на некоторое сходство характера критики буржуазного общества Фицджеральдом и его американскими современниками, романтического соотнесения реального и идеального, а также более частных моментов (образ героя у Фицджеральда и Хемингуэя, образ города у Фицджеральда и Дос Пассоса, художественное время у Фицджеральда и Фолкнера), творчество автора «Великого Гэтсби» в указанный период — своеобразная и оригинальная страница литературы США XX века. Это прежде всего прослеживается на отношении писателя к «американской мечте» и характере воплощения этого отношения в художественных произведениях. В отличие, скажем, от Вулфа, Фицджеральд не стремился охватить явление во всей его широте (что, кстати, порождало у Вулфа некоторую абстрактность образов). Резко сталкивая идеал и реальность, поэзию человеческой мечты и трагическую действительность, причем, главным образом, в плане индивидуально-психологическом, писатель стремился постичь глубину явления, раскрывая не столько трагичность жизни вообще, сколько разлада, разрыва между желаемым и действительным. Благодаря всему этому Фицджеральд и сумел отразить многие скрытые процессы, происходящие в жизни современной ему Америки.
Творчество выдающегося писателя в 30-е годы оценивалось его современниками, как правило, невысоко, однако с этим нельзя согласиться. С не меньшей силой, нежели в «Гэтсби>, Фицджеральд показал неразрешимость, а потому и глубокую трагичность «американской мечты», связанную с этим энтропию личности, осуществившую «мечту» в определенном, условно говоря, драйзеровском аспекте. Характер разрешения Фицджеральдом этих проблем оказал значительное влияние не столько на современную ему литературу США, сколько на американских писателей, вошедших в нее во второй половине XX в. После появления произведений Фицджеральда уже невозможно стало воспринимать «мечту» в оторванности от ее трагичности.
Трезвый социально-критический подход к буржуазной действительности, мастерство истинного художника делают творчество Фицджеральда и в 30-е годы одной из наиболее ярких страниц американской литературы XX в.
Далее: 3. Заключение
Опубликовано в издании: Кухалашвили, В. К. Ф. С. Фицджеральд и американский литературный процесс 20-30-x годов ХХ в. Киев (монография).