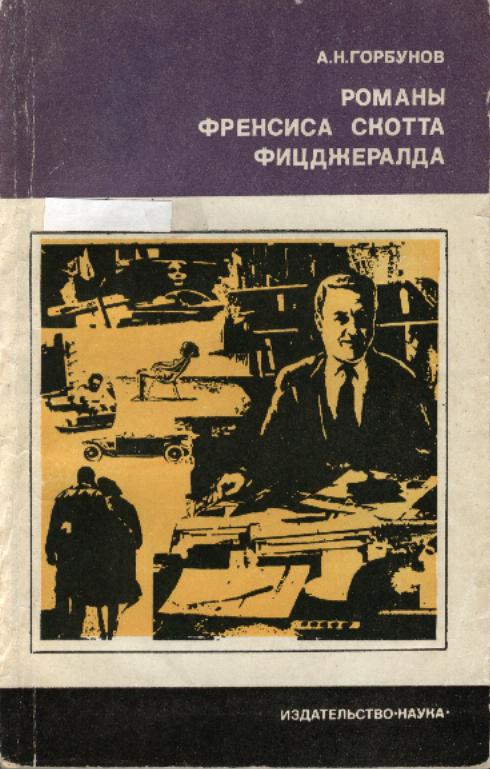Андрей Николаевич Горбунов
Романы Френсиса Скотта Фицджералда
«Великий Гэтсби» - зрелость мастерства
«Великий Гэтсби» вышел в свет в апреле 1925 года. За истекшие три года в образе жизни Фицджералда произошло мало перемен. Он по-прежнему вел рассеянную светскую жизнь и вместе с тем как-то умудрялся много работать, и притом в разных жанрах. После «Прекрасных и обреченных» он написал пьесу, не принесшую ему успеха и быстро сошедшую с нью-йоркской сцены, и том рассказов, названный им «Сказки века джаза». Все это время Фицджералд со своей семьей много путешествовал но Америке и Европе, и большая часть «Великого Гэтсби» была написана во Франции. Впоследствии, вспоминая эти десять месяцев, проведенных в Париже и па побережье Средиземного моря, Фицджералд назвал их едва ли не самыми продуктивными в своей жизни. А сам роман был, по его мнению, лучшей из всех его книг. Фицджералд писал: «Мне бы хотелось, чтобы я никогда не останавливался и не оглядывался назад, а сказал бы после завершения «Великого Гэтсби»: «Я нашел себя — отныне это для меня главное. В этом мой непосредственный долг, без этого я ничто» [1].
Сюжет романа довольно прост и на первый взгляд может даже показаться немного тривиальным. Джей Гэтсби, нувориш 20-х годов, разбогатевший на продаже спиртного во время «сухого закона», ведет ошеломляюще широкий образ жизни. Роскошные приемы, которые он устраивает у себя на вилле, приглашая сотни незнакомых людей, приносят ему огромную известность в обществе и иронический титул «великого» Гэтсби. Весь этот шумный блеск, вся сенсационная мишура нужны ему для того, чтобы вернуть чувства его бывшей возлюбленной Дэзи. «Великий» Гэтсби познакомился с ней еще во время войны, когда он был молодым офицером, не имевшим никаких средств к жизни, кроме армейского жалованья. Вскоре его послали на фронт в Европу, а Дэзи вышла замуж за «баснословно богатого» Томаса Бьюкенена. Встретившись с Гэтсби снова, Дэзи чувствует смятение. Ей вспоминается прошлое. К тому же она несчастлива с Томом. Муж постоянно изменяет ей, и сейчас он даже не особенно старается скрыть связь с Миртл Уилсон, женой владельца гаража, находящегося на дороге из Нью-Йорка в Ист-Эгг, загородное место, где живут Бьюкенены. В кульминационный момент развития сюжет некоторыми чертами начинает все больше и больше исходить па традиционный американский «thriller»: ведя машину Гэтсби, потерявшая контроль над своими чувствами, Дэзи сбивает Миртл Уилсон и, не останавливаясь, проезжает дальше. Миртл почти мгновенно умирает. Том, попав па место происшествия, сваливает вину на Гэтсби, обезумевший от горя муж Миртл убивает Гэтсби, а потом и себя самого, так и не узнав правды.
Но, конечно, этот авантюрный элемент сюжета играет в «Великом Гэтсби» такую же подчиненную и второстепенную роль, как, скажем, и в «Американской трагедии» Драйзера [2]. «Криминальный» сюжет романа позволил Фицджералду сделать ряд важных и тонких наблюдений, смысл которых исследователи продолжают обсуждать и по сей день. Причем наблюдения эти охватывают не только нравы молодежи «потерянного поколения», но и (в размышлениях рассказчика) жизнь всей Америки, затрагивая исторические судьбы американской цивилизации. И, не поняв этого, нельзя понять и книгу.
Главный художественный прием, который Фицджералд использует в «Великом Гэтсби», — это прием постепенно раскрывающегося по ходу действия контраста, своеобразного совмещения противоположностей, или, выражаясь словами Малколма Каули, метод «двойного видения». Размышляя о своем искусстве, сам писатель образно определил этот метод следующими словами: «Богатство твоих эмоций при строгой дисциплине, которой ты их подчиняешь, и создает то особое напряжение, в котором заключен секрет всякой притягательной силы» [3].
Если раньше художественно не разрешенная двойственность авторского отношения нарушала цельность книг Фицджералда, то теперь все разнообразные, а порой и противоположные эмоции писателя подчинены строго продуманному замыслу. В соответствии с таким замыслом и создан характер героя романа.
Фицджералд долго колебался, обдумывая, как лучше назвать книгу. Одно время он почти полностью склонился в пользу «Тримальхиона из Уэст-Эгга», но Зельда и Перкинс отговорили его. Они были, конечно, правы. Мало кому из широкого круга американских читателей была известна яркая фигура вульгарного и хвастливого вольноотпущенника Тримальхиона, созданного фантазией блестящего римского писателя первого века нашей эры Гая Петрония Арбитра, знаменитого современника Сенеки и Нерона. Да и иронически-двусмысленное название «Великий Гэтсби» гораздо более соответствовало духу книги Фицджералда.
Однако само желание писателя использовать имя героя Петрония весьма знаменательно. Известное внешнее сходство Гэтсби с Тримальхионом отрицать трудно. Гостям, случайно попавшим на его виллу, Гэтсби кажется олицетворением худших сторон «века джаза» и его вульгарной и пошлой «этики потребления». Бессмысленное расточительство героя Фицджералда как будто сродни причудам неслыханно разбогатевшего выскочки Тримальхиона. В какой-то момент можно действительно подумать, что прошло два тысячелетия и чванливый, сам всего добившийся в жизни Тримальхион перевоплотился в американского нувориша, столь же вульгарного, как и его древнеримский предшественник.
Гэтсби не умеет держать себя в обществе: одет он пестро и безвкусно, а его речь, изобилующая жаргонными словечками типа «old sport» и «chum», звучит нелепо и претенциозно. Слава «великого» Гэтсби зиждется на роскошных приемах, которые он устраивает у себя на вилле, привлекая па них толпы ищущих развлечений посетителей. И если на этих пиршествах, как некогда у Тримальхиона, слуги не приносят зажаренного целиком вепря, из которого вылетает стая живых дроздов, руки гостям не омывают вином и на столе посредине зала не танцует отлитый из чистого серебра скелет, то в запасе у Гэтсби множество других, гораздо более соответствующих «веку джаза» причуд. Есть у него и свой собственный пляж с вышкой для ныряния, и яхты, и аквапланы; и залах его дома играет оркестр — «не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов», а настоящий большой оркестр в полном составе, а в баре, несмотря на «сухой закон», в неограниченном количестве подаются разнообразные вина и ликеры.
«По субботам и воскресеньям «роллс-ройс» Гэтсби превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форд к приезду каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. А в понедельник восьмеро слуг, включая специально нанятого второго садовника, брали тряпки, швабры, молотки и садовые ножницы и трудились весь день, удаляя следы вчерашних разрушений.
Каждую пятницу шесть корзин апельсинов и лимонов прибывало от фруктовщика из Нью-Йорка — и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом с черного хода в виде горы полузасохших корок. На кухне стояла машина, которая за полчаса выжимала сок ил двухсот апельсинов — для этого нужно только было двести раз надавить пальцем кнопку.
Раза два или даже три в месяц на виллу являлась целая армия поставщиков. Привозили несколько сот ярдов брезента и такое количество разноцветных лампочек, будто собирались превратить сад Гэтсби в огромную рождественскую елку. На столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались окорока, нашпигованные специями, салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота. В большом холле воздвигалась высокая стойка, даже с медной приступкой, как в настоящем баре, и чего только там не было — и джин, и ликеры, и какие-то старомодные напитки, вышедшие из употребления так давно, что многие молодые гости не знали их даже по названиям» [4].
Исследователи редко обращают внимание на стихию комического в «Великом Гэтсби», а она, как нам кажется, играет весьма важную роль в романе, накладывая отпечаток на события и характеры книги. Именно в свете иронии (причем горький юмор часто граничит здесь с едкой сатирой) и дастся описание всей внешней стороны жизни Гэтсби на вилле Уэст-Эгг. Среди его многочисленных, нарядно одетых и шумных гостей нет ни одного запоминающегося лица. Все они подобны повторяющим друг друга комическим маскам, которые существуют постольку, поскольку существует «великий» Гэтсби, и после его смерти в конце романа бесследно исчезают.
В манере «комедии нравов» написаны и сцены с участием делового «патрона» героя — Мейера Вулфшима. Этот человек, в прошлом спокойно «сыгравший па доверии пятидесяти миллионов с прямолинейностью грабителя, взламывающего сейф», изображен в книге в сугубо сатирическом плане, как откровенно гротескная фигура марионетки с подрагивающим «трагическим» носом и «парой узеньких глазок». Комически нелепы и внешность, и манера речи, и поведение этой в сущности довольно зловещей личности; как указывают критики, прототипом Вулфшима послужил знаменитый гангстер Арнольд Рот-штейн, один из королей американского «дна». Интересно отметить, что творчески самостоятельный образ Вулфшима был в то же время связан и с известной литературной традицией. Как на его предшественников можно сослаться на некоторых героев книг Эдит Уортон, преуспевших парвеню, высмеянных ею со всею злостью потомственной нью-йоркской аристократки. Сама писательница считала образ Вулфшима лучшим в книге Фицджералда, высоко оценивая комическую сторону дарования автора «Великого Гэтсби».
И Гэтсби тоже может показаться личностью абсурдно-комической и немного нереальной. Его гости, не испытывая к хозяину никакой благодарности, без конца обсуждают это неслыханное богатство и строят самые разнообразные предположения относительно его источников. Эпитет «великий» звучит в их устах как насмешка, приобретая смысл, противоположный прямому значению этого слова.
Однако ирония лишь один из полюсов «двойного видения» автора. По мерс того как спадают покровы, скрывавшие прошлое Гэтсби, читателю открывается другое лицо героя. Не удовлетворенный добытым им богатством, он стремится к чему-то иному, не похожему на прозу ого жизни, столь монотонной, несмотря па ее лихорадочно-деловой темп. Сначала в лирическом вступлении к роману и далее по мере развития сюжета перед нами предстает новый Гэтсби — романтический мечтатель-идеалист, резко выделяющийся па фоне окружающей его среды. В обществе богатых прожигателей жизни, в атмосфере блеска и роскоши «века джаза» — он чужой. Чужой потому, что, поднявшись па вершину материального успеха, он сохранил известную моральную цельность. Среди духовно опустошенных, безнравственных и циничных людей, окружающих его, Гэтсби возвышается как последний романтик, стойко верящий в свои юношеские идеалы и живущий этой верой в надежде совершить невозможное — вернуть и повторить прошлое. Постепенно образ Гэтсби приобретает все больше и больше романтических и даже героических черт и смысл эпитета «великий» начинает приближаться к своему прямому значению. Это второй полюс «двойного видения» автора. Размышляя о гибели Гэтсби, рассказчик, от имени которого ведется повествование, говорит:
«Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было нечто поистине великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом»,— это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец, не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты,— вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах».
Умение Фицджералда видеть Гэтсби с двух противоположных точек зрения одновременно придает его образу особую рельефность, которой были лишены герои предыдущих романов писателя. Однако секрет «двойного видения» не исчерпывается только этим. Фицджералд как-то сказал: «Мерилом первоклассных умственных способностей является умение держать в голове одновременно две противоположные идеи и сохранять способность мыслить» [5]. Многоплановость зрения не только помогла Фицджералду ясно разглядеть в герое романа мечтателя-идеалиста и вульгарного Тримальхиона «века джаза», но и объяснить суть этого столь странного сочетания. Чтобы лучше понять замысел автора, обратимся к прошлому героя книги и постараемся уяснить смысл романтических мечтаний Гэтсби, природу его «повышенной чувствительности ко всем посулам жизни».
По первоначальному замыслу Фицджералда роман должен был открываться прологом, рассказывающим о детстве Гэтсби. Но затем, чтобы усилить драматичность действия, Фицджералд решил опустить предысторию героя и начать книгу с кульминационного момента его жизни. Однако пролог уже был написан. Несколько изменив его, Фицджералд опубликовал этот отрывок в качестве отдельного рассказа иод названием «Отпущение грехов» примерно за год до выхода «Гэтсби».
В «Отпущении грехов» уже намечен основной конфликт романа — конфликт между романтическими мечтаниями героя и неприглядной реальностью. Одиннадцатилетний мальчик Рудольф Миллер страстно честолюбив; он жаждет сделать необыкновенную карьеру и мечтает о романтических подвигах. Жизнь маленького городка в провинциальном захолустье Америки угнетает Рудольфа; ему не правится даже его собственное имя, распространенное и заурядное. Чтобы подняться над серостью будней, мальчик уходит в мир грез и фантазий, на какой-то миг приобретающий для него большую реальность, чем сама жизнь. Рудольф придумывает себе необычное имя — Блэчфорд Сарнемингтон, которое должно выделить его среди остальных людей, помочь достигнуть желаемого. «Блэчфорд Сарнемингтон был он сам, и слова эти звучали для пего как стихи. Становясь Блэчфордом Сарнемингтоном, он преисполнялся учтивого благородства. Блэчфорд Сарнемингтон жил среди великих молниеносных побед. Стоило Рудольфу слегка зажмурить глаза, и Блэчфорд Сарнемингтон устанавливал свое господство над ним, и па пути со всех сторон ему слышался завистливый шепот: «Блэчфорд Сарнемингтон! Вон идет Блэчфорд Сарнемингтон!»
Нечто подобное случилось и с Джеем Гэтсби. Его настоящее имя — Джеймс Гэтц, и родился он в бедной семье мелкого фермера из Северной Дакоты. Так же как и Рудольфа, его с детства тяготила жизнь захолустья, а честолюбие и фантазия помогли ему создать идеальный мир, противостоящий будничной реальности. Фицджералд сказал теперь па протяжении одного абзаца то, на что ему ранее потребовался целый рассказ:
«Вероятно, это имя (Джей Гэтсби) не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простыми фермерами, которых вечно преследовала неудача, — в мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд, вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном божьим,— если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это,— и должен был исполнить предначертания Отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями семнадцатилетнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца».
«Вездесущая, вульгарная и мишурная красота» —одна из важнейших художественных образов всей книги, символ многоликого, рядящегося в пестрые одежды меркантилизма, насквозь пропитавшего собой окружающее Гэтсби общество и наложившего неизгладимый отпечаток на жизнь всей Америки. В отличие от героев предыдущих романов Фицджералда драма Гэтсби — не в его скептицизме, ведущем к тупику отрицания ради отрицания, а, наоборот, в чрезмерном идеализме, который лишает его возможности трезво оценивать действительность. Литературный критик Максуэлл Гайсмар верно заметил, что корни честолюбивых романтических иллюзий Гэтсби надо искать в так называемом американском мифе, этой восходящей к философии просветителей теории о безгранично широких возможностях демократии в США, где каждый бедный юноша с Дальнего Запада может стать миллионером, или президентом, пли даже и тем и другим сразу, если только у него хватит силы воли и упорства [6]. Именно такие идеи, всячески поддерживаемые официальной массовой пропагандой и проникающие в самые отдаленные уголки страны, и создали благоприятную атмосферу для возникновения «американской трагедии», описанной Драйзером. Их воздействие на разнородное и многонациональное население США, переселившееся в Новый Свет в поисках счастья, было весьма широким, и нет ничего удивительного в том, что Гэтсби мог поверить им. С героем романа Фицджералда как бы произошла интересная метаморфоза — та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире своих мечтаний, как раз и определила собой характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы и надежды, сделав его рабом «вездесущей, вульгарной и мишурной красоты», его стремления к материальному ус-иеху.
В конце романа, уже после смерти героя, его отец показывает Нику Каррауэю расписание дня, составленное Гэтсби в юности.
Подъем - 6.00 утра.
Упражнения с гантелями и перелезание через стену - 6.15 - 6.30
Изучение электричества и пр. - 7.15 — 8.15
Работа - 8.30-4.30
Бейсбол и спорт - 4.30-5.00
Упражнения в красноречии и выработка осанки - 5.00 - 6.00
Обдумывание нужных изобретений - 7.00-9.00
Общие решения:
Не тратить время на Шефтерса и (имя неразборчиво).
Бросить курить и жевать резинку.
Через день принимать ванну.
Каждую неделю прочитывать одну книгу или журнал для общего развития.
Каждую неделю откладывать 5 долл. (зачеркнуто) 3 долл.
Лучше относиться к родителям.
В книге о Фицджералде английский критик Кросс отметил, что этот распорядок дня Гэтсби звучит почти как намеренная пародия на «Науку простака Ричарда» и некоторые страницы «Автобиографии» Бенджамина Франклина [7]. Для нас важен не столько пароднйно-комический элемент, безусловно присутствующий в книге Фицджералда, сколько то общее, что сближало Франклина и Гэтсби и с чем связана ирония писателя. Напомним, что крупнейший публицист, ученый и политик XVIII века Франклин был также и одним из первых «пуритан, превратившихся в янки» [8]. Он был человеком, «возымевшим дерзкий и преисполненный трудностей план достичь морального совершенства»; с этой целью в маленьком гроссбухе он отмечал все свои отклонения с пути истинного и записывал нравоучительные наставления о том, как вернее достичь богатства, вроде нижеследующих: «Не трать понапрасну ни время, ни деньги, а наилучшим способом используй и то и другое. Без прилежания и бережливости не добьешься ничего, а с ними всего» пли: «Помни, что время — деньги. Тот, кто может заработать своим трудом десять шиллингов в день и полдня гуляет или сидит без дела, даже если ему и удастся истратить всего шесть пенсов на развлечения и безделье, не должен думать, что он истратил только эти деньги; он истратил, или, вернее, выбросил, кроме того, еще пять шиллингов» [9].
Конечно, «Наука простака Ричарда», куда вошла большая часть подобных наставлений, далеко не весь Франклин, да и сама эта книга была для современников совсем не тем, чем она стала для исследующих поколений уже в XIX веке. И все же Франклин был в Америке одним из первых выразителей определенных традиций, которые с течением времени становились все сильнее и сильнее и отнюдь не исчезли и в наши дни. Крупнейший американский критик Ван Вик Брукс как-то назвал их традициями «низкой культуры», которые выражали грубый меркантилизм современной американской жизни и противостояли традициям «высокой культуры», выродившимся к концу XIX века в беспочвенный идеализм. «С самого начала мы находим два основных течения американской мысли, — писал в 1915 году Ван Внк Брукс,— с одной стороны, трансцендентализм, который возник из благочестия пуритан, стал философией у Джонатана Эдвардса, отразился в творчестве Эмерсона, вызвал к жизни изысканную утонченность и одиночество лучших американских писателей и в конце концов привел к нереалистичности большей части современной американской культуры, и, с другой — грошовый оппортунизм, который возник из практических нужд жизни колонистов пуритан, стал философией у Франклина, и в конце концов привел к атмосфере пашей современной деловой жизни» [10].
И эта атмосфера «современной деловой жизни» с ее «грошовым оппортунизмом» уже в ранней юности сформировала характер «великого» Гэтсби, наделив благородного романтика-мечтателя чертами вульгарного и безвкусного Тримальхиона.
Впоследствии Гэтсби подчинит все свои стремления единой цели, посвятив жизнь всепоглощающей любви к Дэзи. Однако и на это прекрасное, возвышенное чувство, ради которого герой готов пожертвовать жизнью, выскочка Тримальхион тоже наложит свой отпечаток. Гэтсби и тогда будет стремиться к славе и роскоши, мечтая попасть в общество «самых богатых». Их жизнь кажется ему таинственной, полной особого значения и недостижимо прекрасной. Олицетворением всего, что с ней связано, и станет Дэзи, впервые открывшая ему доступ в этот заманчивый мир. Рассказывая об их знакомстве, Фицджералд пишет:
«Она была первой «девушкой из общества» на его пути... С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров из Кэмп-Тейлор, йотом один. Он был поражен — никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дэзи жила в этом доме — жила запросто, все равно как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, непохожих на другие знакомые ему спальни, о беззаветном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах — не линялых от времени и пропахших сухою лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы... С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену у богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много,— и под ней была Дэзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая — бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков».
В одной из своих статей А. Блок охарактеризовал романтизм как «жадное стремление жить удесятеренной жизнью; стремление создать такую жизнь» [11]. Это определение как нельзя лучше раскрывает романтическую целеустремленность чувств Гэтсби. Его любовь к Дэзи настолько велика, что она буквально ослепляет его, скрывая реальный облик возлюбленной. В жизни Дэзи вовсе не соответствует тому идеалу, который Гэтсби создал в своем воображении, по он не понимает этого потому, что не сама Дэзи, а именно мечта о ней заставляет его с удесятеренными силами стремиться к счастью.
Однако подобный самообман не может длиться вечно. Реальность грубо заявляет о своих правах, обнажая земную сущность стремлений героя. По сути дела гибель Гэтсби предопределена уже в сцене объяснения с Бьюкененами, когда герою впервые открывается правда. Все, что происходит затем, представляет собой уже развязку. Сама же смерть Гэтсби наступает с неминуемой закономерностью, ибо он не в силах примириться с крушением своих идеалов. Так велик его «редкостный дар надежды» и так всесильна «вездесущая, вульгарная и мишурная красота», на служение которой он обрек себя, что разрешить их столкновение может только смерть героя.
Столь полно и тонко раскрыв двойственность природы характера Гэтсби, писатель в конечном счете, как верно заметил советский исследователь А. И. Старцев, рассказал нам о трагедии моральной и эстетической капитуляции человека перед властью денег. Это была одна из главных тем литературы предшествующего столетия, и конфликт честолюбивых стремлений личности с окружающим ее обществом привлекал не одного крупного художника. Описывая судьбу героя книги, Фицджералд по сути дела продолжил так называемую историю молодого человека XIX века, хорошо знакомую нам по романам Стендаля и Бальзака. Герой Фицджералда, так же как и его французские предшественники Жюльен Сорель и Эжен Растиньяк, стремится покорить мир, а беспощадная война «всех против всех», бушевавшая во французском обществе середины XIX столетия, отнюдь не утихла в Америке XX века. Молодой честолюбец, очертя голову бросающийся в борьбу за место под солнцем в пек гангстеров и «сухого закона», сам должен стать гангстером, живущим по принципу «человек человеку — волк», и его романтические иллюзии и рыцарское благородство по отношению к возлюбленной стоят ему жизни. Гэтсби гибнет, так и не разглядев «ядовитой пыли, что вздымалась вокруг его мечты», и в этом его судьба коренным образом отличается от историй его французских предшественников, постепенно терявших идеалы и духовно опустошавшихся.
Однако сама драма утраченных иллюзий уже была описана Фицджералдом в «По эту сторону рая» и в «Прекрасных и обреченных». К пей же он обратился и в своем следующем, четвертом, романе «Ночь нежна», где влияние европейских классиков чувствуется в еще большей мере, чем в «Великом Гэтсби».
Учитывая национальную специфику романа Фицджералда, интересно провести и другую литературную параллель, сравнив «Великого Гэтсби» с «Американской трагедией» Теодора Драйзера. (Заметим, что обе книги вышли в свет в 1925 году, и потому было бы трудно говорить о влиянии одной из них на другую.)
С первого же взгляда бросается в глаза известное сходство их героев. Оба они, выражаясь словами Драйзера, «мягки, как воск», который без труда лепит окружающее их общество в соответствии с идеалами эпохи «процветания». Подобно Гэтсби, честолюбивый Клайд Гриффитс стремится попасть в среду «самых богатых», и, так же как Гэтсби, «нездоровая одержимость мечтами» ведет его к неотвратимой гибели. Но, пожалуй, этим их сходство и ограничивается, поскольку цели Фицджералда и Драйзера различны.
Драйзер, следуя традициям великих реалистов XIX века, пытается осмыслить описываемые им события с трезвой объективностью ученого. Подробно рассказывая о формировании личности Клайда, автор «Американской трагедии» далек от какой бы то ни было идеализации своего героя, и весь долгий рассказ о его жизни по тону напоминает тщательно составленный отчет исследователя. Книгу же Фицджералда просто невозможно представить себе без насквозь пронизывающей ее романтической стихии. Как мы уже имели случай заметить, по природе своего дарования автор «Великого Гэтсби» скорее поэт, чем ученый, и само его зрение устроено иначе. Драйзер идет от широких общественных проблем к личным, Фицджералд же, наоборот, воспринимает социальное прежде всего в индивидуально-нравственном аспекте, и поэтому-то его видение мира столь разительно несхоже с драйзеровским. Вряд ли стоит задавать себе вопрос, кто из этих двух художников лучше, тоньше и значительнее. Вне всяких сомнений, обе книги являются гордостью американской прозы 20-х годов. Касаясь общих проблем, они как бы эмоционально уравновешивают и дополняют друг друга. Впервые в полной мере раскрыв в «Великом Гэтсби» неповторимое своеобразие своего таланта, Фицджералд создал свой, оригинальный вариант «американской трагедии», высказав множество не менее глубоких, чем у Драйзера, мыслей о современной Америке.
В лирическом отступлении в конце книги писатель выходит за пределы непосредственного контекста романа. Фицджералд пишет:
«И по мере того как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков,— нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал,— ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению.
И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку — и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки.
Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки... И в одно прекрасное утро...
Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое».
Эти широко известные строки в общем-то довольно недвусмысленно передают авторский конечный приговор герою. В своем поражении Гэтсби не одинок. В представлении Фицджералда трагедия Гэтсби — ото трагедия всей Америки. Ведь именно здесь, по утверждению писателя, история в последний раз поставила человека «лицом к лицу с чем-то соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению» и в последний раз разбила его призрачные иллюзии. Романтические устремления Гэтсби при всей их двойственности рождены «музыкой последней и величайшей человеческой мечты» о прекрасном новом мире, манившей в Америку миллионы и миллионы переселенцев из Старого Света. Все они стремились вперед, к воплощению этой мечты, и для всех них «она навсегда осталась позади». По существу это приговор исторической судьбе всей страны, неприглядное настоящее которой имеет так мало общего с утопическими надеждами прошлого. Гэтсби обречен на гибель, потому что в современной ему Америке безраздельно торжествует бездушный материализм «вездесущей, вульгарной и мишурной красоты». Ему подчинено течение жизни, которое и относит утлые суденышки идеалистов назад, в прошлое, ибо в настоящем им уже давно нет места.
Но вернемся к роману. Характеризуя Дэзи, внешне прекрасную и внутренне опустошенную, Фицджералд использует все тот же прием «двойного видения». Он особенно уместен, поскольку за ее обаянием и красотой, покорившими сердце Гэтсби, скрывается расчетливая эгоистка, готовая пойти на предательство и преступление ради своей выгоды.
Исследователи часто обращают внимание па разительное сходство героинь ранней прозы писателя — Розалинды, Глории и Дэзи. Такое сходство действительно бросается в глаза. Все три героини в той или иной мере воплощают собой одни тип прекрасной и холодной женщины, который всегда привлекал Фицджералда. Любопытно, что в черновиках к «Прекрасным и обреченным» писатель, воспользовавшись заглавием знаменитой поэмы Китса «La Bolle Dame sans Merci», назвал этот тип «прекрасной дамой без жалости». Такое определение, однако, гораздо больше подходит к героине «Великого Гэтсби», чем к «обреченной» Глории. Напомним, что поэма Китса представляет собой рассказ «бледного рыцаря», одиноко блуждающего под осенним небом:
«Я встретил Даму средь лугов,
Невиданную до сих пор:
Густые кудри, легкий шаг
И дикий взор...
Я для нее цветы сплетал —
Венок, и пояс и браслет —
И сладкий стон и взгляд любви
Был мне ответ.
Ее лишь видел я весь день,
Ее повез я на коне;
Она, склонившись, песню фей
Пропела мне...
И мне коренья и плоды,
И дикий мед нашла она.
«Люблю тебя,— шептала мне,—
Тебе верна...»
Меня в пещеру привела,
Вздыхала, слез поток струя,
И там закрыл он дикий взор
Лобзаньем я.
О горе мне! Забылся я,
Ее напевом усыплен.
И мне приснился на холме
Ужасный сон.
И королей, князей, бойцов
Во сне представший мне отряд
Кричал: «Безжалостной Красой
В полон ты взят!»
Кричали ссохшиеся рты,
Я пробудился, потрясен,
Развеялся среди холмов
Ужасный сон.
Вот почему я здесь брожу,
И мира нет для дум моих,
Хоть осока в озере желта
И щебет стих...»
Перевод В. Рогова
Критик Милтон Стерн заметил, что Фицджералд сознательно назвал героиню Дэзи Фей, уподобив ее девичью фамилию значению трех слов — фея, судьба и вера (по-английски fairy, fate, faith). Но если Дэзи и «правду похожа на «la belle dame sans merci», таинственную фею из поэмы Китса, то пришла она в книгу Фицджералда не из средневековой легенды, но из самой гущи «века джаза» с его меркантилизмом и бездуховностью.
Вот характерная деталь — голос героини. Сначала он пленяет своей изумительной, «волнующей» мелодичностью. В нем слышится «певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди».
Проходит время, и в разговоре с рассказчиком Гэтсби своей интуицией любящего разгадывает тайну обаяния голоса Дэзи: «— В нем звенят... — я запнулся.
— В нем звенят деньги,— неожиданно сказал он.
Ну, конечно же. Как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе — вот что так пленяло в его бесконечных переливах, звон металла, победная песнь кимвал... Во дворце высоком, беломраморном, королевна, дева золотая...»
Звон денег и «победная песнь кимвал». Вот он, ложный кумир Гэтсби, соединивший в себе прекрасную королевну со златым тельцом. Но только такая фея и могла полонить сердце «бледного рыцаря» Гэтсби, став его судьбой и подчинив себе его веру в «свет неимоверного будущего счастья».
Иначе изображен Том Бьюкенен. Автор сразу же прямо осуждает его. «Том, наделенный множеством физических совершенств... был фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, чтобы они не делали, все кажется спадом». В его портрете доминирует одна черта—«полное сокрушительной силы жестокое тело». Эта сокрушительная физическая сила в соединении с огромным состоянием рождает в Томе уверенность, что ему «все дозволено», чувствующуюся во всех его поступках и высказываниях. Вот одно из них, почерпнутое им в книге печально известного теоретика расизма Годдарда «Цветные империи на подъеме». «Этот Годдард развивает свою мысль до конца,— восклицает Том.—От нас, от главенствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх».
Интересно, что сам Фицджералд считал Тома наиболее удачным образом книги, указывая на его типичность для Америки 20-х годов. И действительно, Том как бы вобрал в себя характернейшие черты той части молодых людей «потерянного поколения», нигилизм которых постепенно вел к политической реакции, смыкался с фашизмом. Чутье художника помогло Фицджералду создать в лице Тома психологически убедительный тип человека подобного рода задолго до того, как взгляды этой части «потерянного поколения» окончательно сформировались, приняв характер продуманной политической программы.
Письма Фицджералда рассказывают, что, отказавшись от «Тримальхиона из Уэст-Эгга», он одно время думал назвать роман «Среди гор шлака и миллионеров». Конечно же, ироническая двойственность «Великого Гэтсби» была во много раз лучше и этого названия. Но само оно лишний раз подчеркивало интерес писателя к правам «самых богатых», столь ярко раскрывшийся уже в «Алмазе величиной с отель «Ритц». Миллионера Тома Бьюкенена можно, вне всяких сомнений, назвать младшим братом полновластного хозяина алмазной горы Брэддока Вашингтона. В своей циничности и безнравственности Том нисколько не уступает ему. И если Том и не предлагает взятки господу богу, то лишь потому, что «Великий Гэтсби» не сказка и «баснословно богатым» Бьюкененам нечего бояться в реальной жизни.
«Они были беспечными существами, Том и Дэзи, они ломали вещи, а йотом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность пли еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними»,— пишет Фицджералд в конце книги. И в этом его приговор не только Тому и Дэзи, по и всему праздному и «всепоглощающе беспечному» обществу, отвернувшемуся от Гэтсби в решающий момент.
Приводя список гостей Гэтсби с краткими характеристиками каждого из них, Фицджералд искусно воссоздает безрадостную картину этого общества, внешний комизм которой, как верно заметил упоминавшийся уже критик Кросс, не может скрыть от нас, что сам список по сути дела не что иное, как длинное перечисление смертей, разводов и разбитых жизней, перечень людей, потерявших индивидуальный облик.
«Бенни Мак Кленаван приезжал в обществе четырех девиц. Девицы не всегда были одни и те же, но все они до такой степени походили одна на другую, что вам неизменно казалось, будто вы их уже видели раньше. Не помню, как их звали,— обычно или Жаклин, или Консуэла, или Глория, или Джун, или Джуди, а фамилии звучали как названия цветов пли месяцев года».
Столь же безлики и другие случайные посетители виллы Гэтсби. Все они типичные представители «века джаза», люди, лишившиеся идеалов и стремящиеся найти забвение в лихорадочном веселье сегодняшнего дня. Совершенно естественно, что никто из них не видит Гэтсби — романтика и мечтателя, скрывающегося под вульгарной личиной нувориша, и сама его гибель не трогает их сердца.
Хотя Фицджералд и отказался от названия «Среди гор шлака и миллионеров», не только миллионеры, но и «горы шлака» остались в книге. Долина Шлака, на фоне которой разворачиваются трагические события романа, — один из важнейших художественных образов «Великого Гэтсби». Вот как Фицджералд описывает эту долину:
«Почти на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит рядом с ней, словно хочет обогнуть стороной большой угрюмый пустырь. Это настоящая Долина Шлака — призрачная нива, на которой шлак всходит как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами, перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане».
Как и гора в «Алмазе величиной в отель «Ритц», этот символ имеет в романе Фицджералда два значения. Буквальное — реально существующий пустырь, где Уилсон построил своп гараж и где машина Гэтсби в конце книги сбивает с ног выбежавшую на шоссе Миртл. И переносное, наполняющееся смыслом по мере развития действия, — своеобразное воплощение торжества грубой материальности настоящего, призрачная нива людских душ, угрюмая обитель «шлаково-серых человечков», лишенных всяческих идеалов и внутренне опустошенных.
Американские исследователи часто сопоставляют образ Долины Шлака с образом Бесплодной земли из одноименной поэмы Т. С. Элиота, говоря о влиянии этой поэмы на роман Фицджералда. В самом деле, известное сходство между обоими образами отрицать трудно. Вот, например, пейзаж Бесплодной земли, данный Элиотом в последней части поэмы:
Нeт здесь воды камень
Камень и нет воды и в песках дорога
Дорога которая вьется все выше в горы
Горы эти из камня и нет в них воды
Была бы вода мы могли бы напиться
На камне мысль не может остановиться
Пот пepеcox и ноги уходят в песок
О если бы только была вода средь камней
Горы глинозубая пасть не умеет плевать
Здесь нельзя ни лежать ни сидеть ни стоять
И не найдешь тишины в этих горах
Но сухой бесплодный гром без дождя
И не найдешь уединенья в этих горах
Но красные мрачные лица с ухмылкой усмешкой
Из дверей глинобитных домов
Перевод А. Сергеева
Чем эта каменистая пустыня, где гремит «сухой... гром без дождя», а «из дверей глинобитных домов» смотрят мрачные лица «с ухмылкой усмешкой», не прообраз угрюмого пустыря с его «шлаково-серыми человечками», как бы растворяющимися в пыльном тумане? Ведь Фицджералд, внимательно следивший за современной поэзией, конечно же, прочел «Бесплодную землю», которая вышла в свет в 1922 году. И если видеть в созданном фантазией Элиота пустыре с раскаленной от зноя почвой символ духовного разочарования «потерянного поколения», — а именно так этот символ интерпретировали критики 20-х годов во главе с Эдмундом Уилсоном,— то такая параллель, безусловно, вполне уместна.
Однако сам поэт предостерегал против однозначности подобного толкования, верного лишь отчасти, постольку поскольку. В одной из статей, написанной десять лет спустя после появления поэмы, Элиот с известной долей лукавства заметил: «Когда я написал «Бесплодную землю», часть наиболее благожелательных критиков объявила, что я выразил в поэме «утрату иллюзии целого поколения»; это — чепуха. Быть может, я и выразил собственные иллюзии критиков относительно того, что они утратили иллюзии, но ото вовсе не входило в мои намерения» [12].
И действительно, по замыслу Элиота, раскаленная бесплодная пустыня в его поэме — это некий космический символ заката всего западного мира, символ безвозвратного упадка всей христианской цивилизации, духовные идеалы которой утратили для большинства людей всякий смысл. «Сухой бесплодный гром без дождя» гремит над этой пустыней, ибо сердце человеческое, преисполнившись гордыни и похоти, погрязло в грехе. И спасти современных «полых» [13] людишек от страшного проклятья духовной смерти, по мысли поэта, могут лишь грядущие катаклизмы, грандиозные и кровавые человеческие жертвы.
Фицджералд чужд вселенскому пессимизму автора «Бесплодной земли», его эсхатологическому видению мира. Размышления писателя о трагической судьбе Америки в «Великом Гэтсби» носят гораздо более конкретно-исторический характер, более конкретна и образность книги. Мысли же, от которых столь резко отрекся Элиот, назвав их чепухой, были главными для Фицджералда. Поэтому и «шлаково-серые человечки» «Великого Гэтсби» отнюдь не тождественны «полым» людишкам Элиота. Ведь Долина Шлака — это вовсе не апокалиптический образ дряхлого мира на грани Страшного Суда, но вполне определенный символ Америки 20-х годов, когда появилось целое поколение молодых людей, утративших всякие иллюзии и живущих сегодняшним днем.
В непосредственной связи с Долиной Шлака возникает и другой, не менее важный символ романа; возвышающиеся «над этой безотрадной землей, над стелющейся по ней клубами серой пыли глаза доктора Т.-Дж. Эклберга», немого свидетеля драмы героев книги. Фицджералд пишет: «Глаза доктора Эклберга, голубьте и огромные,— их радужная оболочка имеет метр в ширину. Они смотрят па вас не с человеческого лица, а просто сквозь гигантские очки в желтой оправе, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, какой-то фантазер-окулист из Квинса установил их тут в надежде на расширение практики, а потом сам отошел в край вечной слепоты или переехал куда-нибудь, забыв о своей выдумке. Но глаза остались, и, хотя краска немного полиняла от дождя и солнца и давно уже не подновлялась, они и сейчас все так же грустно созерцают мрачную свалку».
Как рассказывают биографы писателя, Фицджералд совершенно случайно набрел на этот символ, увидев неудачный эскиз к обложке первого варианта романа, на котором была изображена Дэзи, пристальным взором глядящая на Нью-Йорк. Эскиз был забракован, но через некоторое время Фицджералд написал Перкинсу: «Ради бога, не отдавайте никому другому эту мою обложку. Я вписал ее в книгу».
Большинство критиков считают, что глаза доктора Эклберга символизируют «всепоглощающую беспечность», черствость и равнодушие людей, с безразличием взирающих на страдания ближнего своего в лишенном богов мире, мире «века джаза». Такое толкование, безусловно, оправдано логикой сюжета книги. Однако оно не исчерпывает многозначности этого образа. В одной из последних сцен романа полуобезумевший от горя и отчаяния Уилсон произносит следующие слова. «Я поговорил с ней,— зашептал он после долгого молчания,— и сказал ей, что меня она может обмануть, но господа бога не обманет. Я подвел ее к окошку.— Он с трудом поднялся и, подойдя к окну, приник к стеклу лбом.— Подвел и говорю: господь, он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но господа бога не обманешь.
И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул — он смотрел прямо в огромные блеклые глаза доктора Т. Дж. Эклберга, только что выплывшие из редеющей мглы.
— Господь, он все видит,— повторил Уилсон. Михаэлис попробовал его образумить.
— Да это ж реклама!
Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна. А Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой».
Блеклые и пустые глаза доктора Эклберга, являясь всего лишь рекламой, в то же время олицетворяют для Уилсона всевидящее око самого господа бога. Ирония Фицджералда, столь явно ощутимая в этом отрывке, полностью соответствует всему сложному замыслу книги. Дешевая реклама, становящаяся божеством,— этот образ уже знаком нам, не его ли предначертания исполнял Гэтсби, служа «вездесущей, вульгарной и мишурной красоте»? И не потому ли так грустна ирония писателя, что весь роман как раз и построен на контрасте истинных и ложных ценностей, неразрывно слитых в царстве меркантилизма Америки 20-х годов?
Впоследствии, сравнивая между гобой написанные им книги, Фицджералд отметил известное сходство «Гэтсби» с «По эту сторону рая». И действительно, обе книги развивают традиции романа «воспитания», хотя в «Гэтсби» эти традиции играют подчиненную роль и связаны с побочной линией сюжета, которая рассказывает о судьбе Ника Каррауэя.
Ник — единственный персонаж книги, характер и взгляды которого меняются по мерс развития сюжета. События лета 1922 года служат для него своеобразной школой жизни, помогающей ему лучше понять себя и окружающий мир.
Эта сюжетная линия «Гэтсби», выраженная в книге большей частью косвенным образом, при помощи различных полунамеков и лирико-поэтических отступлений, иногда проходит мимо читателей и критиков. А между тем она очень важна для понимания замысла автора, настолько важна, что другие критики, впадающие в противоположную крайность, утверждают, что именно Каррауэй и есть главный герой книги, которая представляет собой не что иное, как «трагическую пастораль». Думается, что правда лежит где-то посредине. Попробуем найти ее, несколько задержавшись на теории «трагической пасторали».
Если Гэтсби, делец, поднявшийся с самых низов общества, был неожиданной фигурой на страницах романа Фицджералда, то Ник Каррауэй — лицо, в какой-то мере уже знакомое нам. Этот «второй герой» романа, рассказывающий о событиях книги,— тоже один из «потерянных» молодых людей. Он прошел войну и столкнулся с послевоенным разочарованием, и это придает скептический оттенок его размышлениям. Вместе с тем, утратив, подобно многим своим сверстникам, иллюзии и надежды, Ник сохранил за собой «одну фундаментальную добродетель» — непоколебимую и безусловную честность в оценке себя и окружающих. Именно эта честность и помогает ему понять смысл развернувшейся на его глазах драмы. После смерти Гэтсби в конце книги Ник навсегда прощается с Востоком США, уезжая на Средний Запад, туда, где люди кажутся ему морально чище и здоровее, а жизнь — ближе к природе, проще и понятней.
На первый взгляд действительно может показаться, что возникающее в сознании Ника образно-символическое противопоставление Востока с его внешним блеском и моральной коррупцией более патриархально уравновешенному Западу и есть одно из центральных звеньев общего замысла Фицджералда. Ведь это противопоставление подспудно выражено и в контрасте между Ист-Эггом, обителью Бьюкененов, и Уэст-Эггом [14], местом, где живут нравственно более цельные Ник и Гэтсби, и в описаниях Нью-Йорка, и, наконец, в общей «апокалипсической», в духе Эль Греко, картине всего Востока, которая преследует воображение Ника после гибели Гэтсби:
«Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки, раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков, — даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэст-Эгг я до сих пор вижу во сне. Это скорей не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и па пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому — ото не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать...»
Противопоставление Востока и Запада США вовсе не было чем-то новым в истории американской мысли. Возникнув из некоторых сторон учения французских просветителей и существенным образом трансформировавшись под влиянием местных условий, эта теория в той или иной форме отразилась в произведениях множества мыслителей, политических деятелей и писателей Америки первой половины XIX века. Как утверждает автор богато документированной монографии «Американский Запад как символ и миф» Генри Нэш Смит, идея о том, что цивилизация нравственно уродует человека, в то время как природа (и в особенности нетронутая природа Дальнего Запада) является источником силы, правды и добродетели, встречается во многих работах того времени, посвященных Западу и постоянно перемещавшейся «границе» [15]. Несмотря на некоторое упрощение этих сложных проблем, утверждения Смита отнюдь не лишены оснований.
Однако время торжества таких идей не было особенно длительным. Вскоре после Гражданской войны между Севером и Югом эти и им подобные теории были развенчаны грубой практикой «позолоченного века», духовным знаменем которого стал вульгарный утилитаризм. К концу прошлого столетия представления о моральном превосходстве патриархально-добродетельного Запада выродились в творчестве ряда второстепенных писателей США в своего рода литературный штамп, согласно которому жизнь на Западе Америки представляла собой мирную идиллию счастливых поселян. И реакция против розового оптимизма таких книг не замедлила последовать.
Как известно, большая группа поэтов и прозаиков выступила в первые десятилетия нашего века с произведениями, реалистически изображающими духовную пустоту и косность быта американской провинции. Среди этих писателей видное место занимали Эдгар Ли Мастере, Шервуд Андерсон и Синклер Льюис. К середине 20-х годов их книги успели уже завоевать довольно прочную популярность и создать даже нечто вроде своеобразной литературной традиции, которую критик Фредерик Хоффман назвал «антипасторальной» [16].
Тем более странной и несвоевременной может показаться в исторической перспективе «трагическая пастораль» Фицджералда. Настолько странной, что даже если на какой-то момент и согласиться с. подобной трактовкой «Великого Гэтсби», поддавшись внешней логичности аргументации ее сторонников, то невольно возникает вопрос: сознательно ли стремился писатель к созданию «трагической пасторали» или, может быть, она получилась случайно, как бы помимо его воли?
Как нам кажется, ответ должен быть отрицательным. «Трагической пасторали» в «Великом Гэтсби» не получилось, и автор книги вовсе не стремился к ее созданию.
Родившись на Среднем Западе Америки, Фицджералд на всю жизнь сохранил теплые чувства к родному краю. В известном смысле Средний Запад всегда был духовно ближе писателю, чем вознесший его на вершину славы Восток. Однако эти воспоминания юности вовсе не носили идиллического характера, и отношение Фицджералда к Западу всегда содержало в себе долю совершенно трезвой критичности. Ведь не случайно же мрачно-фантастическая картина Востока в конце «Гэтсби» начинается с вполне «антипасторального» упоминания «жиреющих от скуки, раскоряченных городишек за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады». Заметим, что такое же сложное, по-своему двойственное отношение к Западу было характерно и для предшественников Фицджералда, создавших саму «антипасторальную» традицию. Ведь недаром Шервуд Андерсон, с болью и состраданием рассказывавший о загубленных жизнях «гротесков», в то же время с отвращением отворачивался от машинной цивилизации Востока, ища красоту вне ее, на лоне природы все того же Запада.
С другой стороны, огни Востока, так призывно манившие к себе молодого Фицджералда всего несколько лет назад, успели к середине 20-х годов потерять большую часть своей яркости и новизны. Повзрослевший художник отчетливо увидел безотрадные горы шлака, вздымавшиеся на подступах к столице Востока, воспетому им ранее Нью-Йорку. И характерно, что в своей следующей книге писатель оставил Восток Америки для того, чтобы отправиться еще дальше, еще восточнее, через Атлантический океан в Европу.
Все эти сложные чувства Фицджералда и нашли свое отражение в рассуждениях рассказчика. Касаясь их, не следует забывать одно очень важное обстоятельство. Какую бы существенную роль Ник ни играл в повествовании, он все же только «второй герой», действующее лицо книги, которое никак нельзя полностью отождествлять с автором.
По замыслу Фицджералда, драма Гэтсби, развернувшаяся перед глазами у Ника Каррауэя, должна была закончить долгий процесс «воспитания его личности». По мере развития действия рассказчик переживает духовный кризис. Поняв смысл случившегося, Ник как бы переходит известный нравственный рубеж, ту самую незримую «теневую черту», что отделяет беспокойную юность от познавшей свои возможности зрелости [17].
«Пасторальные» симпатии Ника, хотя они и не лишены скепсиса авторского двойственного отношения к Западу, в конечном счете побеждают. Но это только одна из сторон сложного процесса духовного воспитания рассказчика. Самое главное для Ника — полностью порвать с ранее импонировавшими ему ценностями мира Тома и Дэзи, уже давно проникшими и на Запад США. Размышляя о трагедии Гэтсби, повзрослевший «второй герой» романа понимает важность моральной ответственности человека за своп поступки перед самим собою и окружающими его людьми. Именно это и есть итог его духовных поисков. И характерно, что финальные рассуждения Ника затрагивают уже не просто Восток или Запад США, по касаются исторической судьбы всей Америки, тем самым определяя масштабы замысла Фицджералда.
* * *
Литературные вкусы Фицджералда, складывавшиеся медленно и постепенно, окончательно сформировались лишь в момент работы его над третьим романом. К этому времени завершился отчасти наметившийся уже в «Прекрасных и обреченных» переход писателя от традиции «дискурсивного» повествования к традиции романа «отбора», гораздо более соответствовавшей своеобразию дарования автора «Великого Гэтсби».
Говоря об изменении эстетической позиции Фицджералда, американский критик Джеймс Миллер объясняет этот сдвиг во взглядах писателя прежде всего влиянием Генри Джеймса. Как нам кажется, Миллер в сильной море преувеличивает значение художественного авторитета Джеймса в судьбе Фицджералда. К роману «отбора» писатель пришел не потому, что кто-то вдруг повлиял на него, и не потому, что он стремился сознательно подражать кому-то, а в силу внутренней необходимости найти форму выражения, больше всего подходящую для передачи его мыслей и чувств в масштабе романа.
Однако если уж говорить о преемственности традиций, то прежде всего следует подчеркнуть связь «Великого Гэтсби» с так называемым «послефлоберовским» реализмом, известного влияния которого, кстати говоря, не избежал и Генри Джеймс в первый период своего творчества. Во время работы над «Гэтсби» Фицджералд с большим увлечением читал и перечитывал книги видного английского романиста (по национальности поляка) Джозефа Конрада, который был одним из наиболее талантливых представителей «послефлоберовской» школы в Англии. Отчасти под воздействием Конрада автор «Великого Гэтсби» и принял ряд положений творческой программы Флобера. Отныне великий французский реалист стал чуть ли не главным литературным авторитетом Фицджералда, одним из самых любимых и близких ему художников слова.
В стихотворении «Искусство» учитель молодого Флобера знаменитый французский поэт и романист Теофиль Готье писал, что «созданье тем прекрасней, чем взятый материал бесстрастней — стих, мрамор иль металл». В этой фразе Готье образно выразил важнейший эстетический принцип, который полностью разделял и автор «Госпожи Бовари». Искусство должно быть бесстрастно-объективным, «безличным», а художник обязан, правдиво рисуя жизнь, как бы самоустраниться и предоставить читателю самому делать выводы. Конечно, Флобер вовсе не отрицал необходимости «поучительных выводов». Его главным врагом была дидактика в искусстве, откровенное морализирование, художественно бестактная назидательность.
В одном из писем Флобер так раскрыл свое понимание объективного искусства: «В «Госпоже Бовари» нет ни слова правды — это чистейший вымысел, я не вложил туда ни своих чувств, ни личных переживаний. Напротив, иллюзия (если таковая имеется) создается именно неличным характером произведения. Один из моих принципов: не вкладывать в произведения своего «я». Художник в своем творении должен, подобно богу в природе, быть невидимым и всемогущим, его надо всюду чувствовать, по не видеть» [18].
Американские критики, рассуждая об изменении литературных вкусов автора «Великого Гэтсби», обычно упускают из вида влияние Флобера. Так называемая школа «отбора», традициям которой Фицджералд следовал во время работы над «Великим Гэтсби», гораздо более широко известна под другим названием, как школа «после-флоберовского реализма». Именно так ее называл сам американский писатель в своих письмах и черновых заметках. В отличие от «дискурсивного» романа с его свободной композицией и бесконечными авторскими отступлениями, главными требованиями школы «отбора» были четкая продуманность композиции, строгий самоконтроль и видимое невмешательство автора в ход повествования— требования, уже сформулированные во флоберовской теории «безличного», внешне «бесстрастного» искусства.
Принципу «безличности» Фицджералд следовал во всех своих лучших произведениях, начиная с «Великого Гэтсби». Он говорил, что писать хорошую прозу значит «плавать под водой с задержанным дыханием» [19], тем самым в образной форме выразив свое понимание флоберовской «бесстрастности». А немного ранее в предисловии к очередному изданию «Великого Гэтсби» он заметил, что материал, который он сократил в этой книге, мог бы составить целый новый роман [20].
Мы уже говорили о значении фигуры Ника Каррауэя в идейном замысле «Великого Гэтсби». Фицджералд последовал примеру Конрада и ввел в роман «лицо от автора» именно для того, чтобы соблюсти требование флоберовской объективности. Рассуждения и комментарии Ника, не являясь навязчиво-тенденциозными, раздвигают границы сюжета. Кроме того, вспоминая историю Гэтсби, Ник останавливается на самом главном, и это позволяет Фицджералду сконцентрировать события книги в нескольких сценах. Эта концентрация действия настолько последовательна, что роман всем своим построением напоминает пьесу. Очевидно, поэтому его так часто и так успешно инсценировали в США. И, видимо, не случайно сам Фицджералд отнес «Великого Гэтсби» к жанру так называемого драматического романа [21].
Единство действия — важнейший принцип построения такого романа — помогает автору добиться замечательной экономии материала. В романе нет лишних или случайных деталей. У каждой даже вскользь брошенной реплики есть свое продолжение. Вот характерный пример. В начале «Гэтсби» рассказчик ведет случайный разговор с тогда еще мало знакомой ему Джордан Бейкер о том, что она плохо водит машину. «Для столкновения требуются двое»,— говорит Джордан. Эта, казалось бы, незначительная фраза в свете дальнейших событий наполняется неожиданным «вторым смыслом». Когда ее снова вспоминает Ник в конце романа, она звучит как мрачное предзнаменование, исподволь подготавливающее читателя к развязке.
Или еще один пример. Фицджералд по сути дела ничего конкретного не говорит о деятельности «великого» Гэтсби, знаменитого короля «бутлеггеров» и крупного биржевого спекулянта. Однако мы случайно слышим один из его коротких «деловых» разговоров по телефону, и этого достаточно, чтобы у нас сложилось впечатление, что он действительно крупная фигура на «черном рынке» США. Столько в его словах властности и энергии крупного босса, уверенно ворочающего огромными капиталами.
Такое обыгрывание детали в то же время в чем-то сближает технику письма Фицджералда с искусством импрессионизма, стремившегося скорее к действенности общего впечатления, чем к точности подробностей. Интересно напомнить, что в момент работы над «Великим Гэтсби» Фицджералд специально перечитывал знаменитый манифест Конрада, предисловие к повести «Негр с «Нарцисса», где английский романист заявил, что его задачей было «силон написанных слов заставить вас слышать, заставить вас чувствовать и, самое главное, заставить вас видеть» [22]. Сам Конрад, как указывал его многолетний соавтор Форд Мэдокс Форд, никогда не отрицал известной импрессионистичности манеры своего письма, стремясь передать «эффект жизни», «не повествуя, а воспроизводя... впечатления» [23]. Некоторая доля импрессионизма присутствует и в «Великом Гэтсби», хотя простое «воспроизведение впечатлений» никогда (и даже в этот период) не было для Фицджералда самоцелью.
Впоследствии, оглядываясь на пройденный путь и рассуждая о стиле написанных им книг, Фицджералд пришел к выводу, что последовательность в его творчестве была такой: сперва возникала мысль, а потом он искал единственно необходимую для нее форму выражения. Придерживаться этого правила он советовал и своей дочери: «Когда люди рассуждают о новом стиле, их всегда поражает его новизна, потому что они полагают, что говорят только о стиле, в то время как то, о чем они говорят,— это новая идея, выраженная с такой силой, что она порождает оригинальность образа мышления» [24].
Чтобы понять своеобразие стиля Фицджералда в «Великом Гэтсби», стоит сравнить его манеру с манерой ранних произведений Хемингуэя. Так же как и Фицджералд, автор «Фиесты» и «Прощай, оружие!» прошел через юношеский период протеста. И для него весь неустроенный мир 20-х годов «тонул в фарисействе». Сам Хемингуэй очень точно выразил это настроение эпохи, сказав однажды: «Все наши слова потеряли смысл из-за небрежного обращения с ними». Вместе со словами потеряли смысл понятия и чувства, ими выражаемые. И вся жизнь в ее разнообразии казалась лишь бессмысленной, бесцельной суетой, пустым томлением духа. Поэтому открытие мира для Хемингуэя-художника, как верно заметил Гарри Левин [25], было прежде всего открытием простых фактов, возвращением смысла словам и чувствам. И уже па основе этого как бы подспудно вырастал сложный хемингуэевский «айсберг» подтекста.
Непрекращающиеся поиски правды в искусстве — программное положение эстетики Хемингуэя — пронизывают собою и форму всех его книг. Простота и экономность ранней прозы писателя, ее поэтичность и чистота подчинены стремлению вернуть слову его первозданный, стертый временем смысл. За этим стоит точность изображения факта и действия. А за ними попытка добиться максимальной правдивости описываемых чувств, их освобождения от ложно-романтического пафоса и позы. И если стиль раннего Хемингуэя грешит «немотой» (в чем упрекали писателя его противники), то это тот род немоты, о котором Осип Мандельштам писал:
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста.
Мы уже имели случай сказать о том, как важна была правда искусства для автора «Великого Гэтсби», пытавшегося быть одновременно «интеллигентом и честным человеком». Перечитывая книгу примерно через десять лет после ее выхода, Фицджералд с удовлетворением отмечал, что он ни па шаг не отступил в ной от своего понимания правды [26]. А оно весьма сильно отличалось от хемингуэевского. Фицджералд, по его собственным словам, стремился скорее к художественному «эквиваленту правды», пытаясь достичь абсолютной «честности творческой фантазии» [27]. При этом пафос романтики не только не отталкивал писателя, но, наоборот, привлекал его. Автору «Великого Гэтсби» не нужно было, подобно Хемингуэю, заново открывать окружающий его мир. «Честность фантазии» помогала Фицджералду яснее увидеть некоторые его стороны, неожиданно повернувшиеся новыми своими гранями. Лаконичность и максимальная точность изображения факта и действия не были для писателя главными задачами — важнее для него было передать поэтический эффект общего настроения; а слова не только не потеряли для Фицджералда своего значения, но теперь еще сильнее, чем раньше (скажем, в «Прекрасных и обреченных»), привлекали его богатством своих красок.
Поэтому стиль «Великого Гэтсби» далек от сознательной простоты раннего Хемингуэя. Язык романа эмоционально приподнят и насыщен самой разнообразной «откровенно» поэтической лексикой, искусно вплетенной в образную фактуру книги. Однако при всем несходстве раннего Хемингуэя и Фицджералда есть в их стиле и нечто общее. Это поэтический эффект, роднящий некоторые места в книгах обоих писателей с так называемыми стихами в прозе. Только у Хемингуэя — это кристаллически чистая, «немая» поэзия, сходная с сознательной простотой дикции современных поэтов; проза же Фицджералда гораздо ближе сенсуалистической поэзии романтиков.
Другой важной особенностью стиля романа является его «вещность», умение обрисовать характер персонажа романа путем описания окружающего его материально-предметного мира. В первых трех главах автор последовательно знакомит читателя с домом Бьюкененов в Ист-Эгге, с гаражом Уилсона и квартирой Тома в Нью-Йорке и наконец с виллой Гэтсби в Уэст-Эгге. Описание каждого из этих «жилищ» дополняет портрет их владельцев. Но, пожалуй, больше всех запоминается вилла Гэтсби с ее почти нереальным парадом безвкусной роскоши и расточительства и вместе с тем настоящими, вовсе не бутафорскими книгами в обширной библиотеке.
Конечно, эта «вещность» стиля романа не была художественным открытием Фицджералда. Ею пользовался еще Петроний при характеристике своего Тримальхиона, не говоря уже о многочисленных и более близких нам по времени прозаиках. Применяли ее в своих книгах и некоторые старшие современники автора «Великого Гэтсби», и в частности Синклер Льюис. Развивая их традиции, Фицджералд сумел добиться большого совершенства в использовании этого приема, заставляя «вещи» передавать сложные оттенки подтекста и иногда даже превращая их в символы (в качестве примера можно привести, скажем, уже упоминавшиеся глаза доктора Эклберга).
Подводя итоги, заметим еще раз, что «Великий Гэтсби» — первое крупное произведение Фицджералда, где обе — лирико-романтическая и сатирико-реалистическая — стороны дарования писателя слились в единое гармоническое целое. И действительно, символика романа, его по-китсовски сенсуалистическая образность, лирически-приподнятый строй повествования, романтическая фигура героя, иронические контрасты «двойного видения» и некоторые другие черты книги сближают ее с произведениями романтиков XIX века. Но романтическая стихия не единственная и даже не господствующая в «Великом Гэтсби». Ведь «честность фантазии» художника предполагала для Фицджералда прежде всего трезвое осмысливание жизни и ее реалистическую оценку, что сыграло главную роль в художественном замысле книги.
Фицджералд как-то сказал: «Талант, созревающий рано, обычно бывает поэтическим, таким было в значительной море и мое дарование. Талант прозаика зависит от другого — от освоения материала и его тщательного отбора, или, проще говоря, от того, есть ли у писателя что сказать и сумел ли он найти интересную, до тонкости разработанную им форму выражения» [28].
Романтико-поэтическая сторона дарования Фицджералда проявилась рано и ярко уже в его первой книге. Прозаически-реалистическая линия творчества писателя, определившая собой богатство мыслей «Великого Гэтсби», развивалась более медленно и полностью раскрылась только в его третьем романе. Органичное, нигде не нарушаемое сочетание этих сторон таланта писателя в книге и делает «Гэтсби» самым совершенным произведением Фицджералда, всеми признанным шедевром, художественного уровня которого он уже никогда больше не смог достичь.
Примечания:
1 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 294.
2 Сам Фицджералд, споря с мнением Менкена о том, что «Гэтсби» всего лишь блестяще рассказанный анекдот, писал: "Не делая никаких обидных сравнений между классами А и С, можно сказать, что если мой роман только анекдот, то и «Братья Карамазовы» - то же самое. Исходя из определенной философии, их можно свести к детективу».
3 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 209.
4 Ф. Скотт Фицджералд. Великий Гэтсби. Пep. Е. Калашниковой. М.«Художественная литература", 1965, стр. 57-58. В дальнейшем цитаты из романа даются по этому изданию.
5 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 69.
6 См. об этом также интересную статью критика Мариуса Бьюли в сб. F. Scott. Fitzgerald: A Collection of Critical Essays, ed. by A. Mizener. N. Y., 1963.
7 K.G.W. Cross. Scott Fitzgerald. London, 1964, p.66. Об этом же писали и некоторые другие критики, в частности Чарльз Уэйер и Ричард Чейз.
8 Карлейль назвал Франклина «отцом всех янки», подразумевая под «янки», как справедливо заметил А. И. Старцев, тип американского дельца-буржуа, «self made man». См. История американской литературы, т. 1. М., 1947, стр. 62.
9 A Documentary History of American Thought and Society. Boston, 1965, p. 37-38.
10 Van Wyck Brooks. America's Coming of Age. N. Y., 1956, p. 4-5.
11 А. Блок. Собрание сочинений, т. 6. М.-Л., Гослитиздат, 1902, стр. 367.
12 Cleanth Brooks. The Hidden God. New Haven and London, 1963, p. 69.
13 Так Элиот именует своих современников в другом стихотворении тех же лет.
14 По-английски «ист» значит восток, а «уэст» - запад.
15 Henry Nash Smith. Virgin Land, the American West as Symbol and Myth. N.Y., 1950, p. 77.
16 Frederick Hoffman. The Modern Novel in America. Chicago, 1963, p. 114.
17 «Теневая черта» - одна из наиболее известных повестей Джозефа Конрада, в ней он рассказал о том, как жизненные испытания помогают молодому герою найти себя. К этой теме Конрад обращался и в других своих произведениях, хорошо знакомых Фицджералду. Интересно отметить, что автор «Великого Гэтсби» признавал, что Ник Каррауэй во многом обязан своим рождением конрадовскому «лицу от автора» Марлоу, чья поездка в Конго и повести «Сердце тьмы» была также и его «путешествием внутрь себя».
18 Г. Флобер. Собрание сочинений, т. V. М., изд-во «Правда», 1956, стр. 164-165.
19 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 304.
20 Frederick Hoffman. The Great Gatsby, a Study, p. 167.
21 F. Scott Fitzgerald. Letters, p. 363.
22 Frederick Ноffman. The Great Gatsby, a Study, p. 62.
23 Там же, стр. 67.
24 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 304.
25 Hemingway: A Collection of Critical Essays. N. Y., 1962.
26 Frederick Hoffmann. The Great Gatsby, a Study, p. 167.
27 Там же.
28 F. Scott Fitzgerald. The Crack-up, p. 305.
Далее: 4. Тридцатые годы и роман «Ночь нежна»
Опубликовано в издании: Горбунов А. Н. Романы Френсиса Скотта Фицджералда. М., Наука, 1974 (монография).