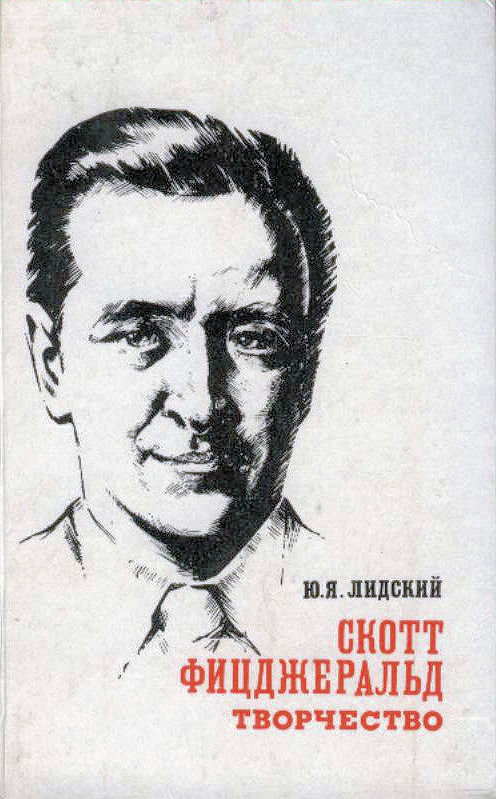Юрий Яковлевич Лидский
Скотт Фицджеральд - Творчество
Глава пятая
Неоконченный шедевр
Писатель еще правил гранки романа «Ночь нежна», когда, в январе 1934 г., состояние Зельды Фицджеральд резко ухудшилось. Если не считать редких и кратких «каникул», ей предстояло теперь до конца своих дней оставаться в специальных клиниках или санаториях. Роман, на который возлагалось столько надежд, не имел коммерческого успеха, работа над очередным крупным замыслом шла плохо и в конце концов была оставлена. Между тем расходы на лечение жены и воспитание дочери все возрастали, а здоровье самого Фицджеральда было подорвано. Так начался последний период жизни и творчества писателя, время новых надежд и разочарований, отчаянной борьбы с бедностью, болезнями, недостатком сил.
В 1937 г. Фицджеральд вновь едет в Голливуд, куда его привлекает не только высокий гонорар сценариста, но и надежда использовать возможности кино для создания произведений подлинно большого искусства. Эта надежда оказалась несбыточной: продюсер Джозеф Манкевиц хладнокровно выхолостил написанный Фицджеральдом сценарий по роману Ремарка «Три товарища». Удар, как свидетельствуют письма Фицджеральда, был очень тяжелым, но расстаться с Голливудом писателю не было суждено. Наступила пора случайной краткосрочной работы для той или иной студии, пора писания малозначительных рассказов для заработка. В конце ноября 1940 г. писатель испытал первый тяжелый сердечный приступ. 21 декабря 1940 г., в разгаре работы над романом «Последний магнат», Фицджеральд умер от повторного приступа болезни сердца.
*
Вторая половина 30-х годов была трудным, даже трагическим временем в короткой жизни писателя, но это же время отмечено напряженными раздумьями и творческими поисками. Необходимо кратко остановиться на статьях, очерках и эссе Фицджеральда, лучшие и наиболее значительные из которых не случайно появились в последнее десятилетие его жизни.
Всего Фицджеральд написал около сорока статей, очерков и эссе, некоторые из них — в соавторстве с Зельдой. Будь весь этот материал собран воедино, он образовал бы внушительных размеров том, интересный во многих отношениях. Первые очерки писателя появились в 1920 г. Конечно, публикация их (да и сам факт написания) была обусловлена популярностью молодого автора, только что выпустившего нашумевший роман. Нельзя не отметить, что, подобно рассказам Фицджеральда, его публицистика порой создавалась в основном ради денег, но была неизменно оригинальна, часто — талантлива.
Во многих случаях очерки и эссе Фицджеральда помогают уточнить и прояснить отношение писателя к социальным проблемам, поставленным в его художественных произведениях. В других случаях эти публикации важны, поскольку проливают свет на частные и общие черты художественной манеры, стиля писателя. Наконец, зачастую они содержат интереснейший автобиографический материл. Можно поэтому лишь пожалеть, что далеко не все очерки и эссе Фицджеральда доступны сегодня читателю. Существенно компенсируют этот пробел два сборника, весьма разнообразных по составу. Особенно важен сборник, составленный Эдмундом Уилсо-ном, включающий также многие рабочие записи писателя, сделанные в специальных записных книжках, его же ранее не собранные письма и некоторые другие материалы. Эта книга вышла в 1945 г. под названием «Крушение», подчеркивающим значение одноименных автобиографических очерков Фицджеральда, которые были написаны и опубликованы в 1936 г. В 1957 г. критик и биограф писателя Артур Майзенер составил и выпустил книгу «Писатель после полудня», куда включил остававшиеся несобранными, а также неопубликованными рассказы и эссе Фицджеральда. В этот сборник вошли статьи преимущественно 20-х годов. Таким образом, взятые вместе, оба сборника дают представление о публицистике писателя, о том, как менялось его отношение к действительности, к самому себе, к различным проблемам эстетики. Другими словами, публицистика Фицджеральда как бы составляет параллель его художественному творчеству.
В предисловии к сборнику А. Майзенер справедливо, на наш взгляд, замечает, что не только в рассказах, но и в очерках Фицджеральда чувствуется своего рода совмещение индивидуально-автобиографического с типичным. Критик называет это «двойной перспективой» и, установив ее наличие, приходит к верному заключению о художественной близости в творчестве писателя жанров рассказа и эссе (очерка, статьи) [1].
Эссеистике Фицджеральда посвящено сравнительно небольшое количество работ. Чаще всего, естественно, внимание привлекают три статьи, объединенные под названием «Крушение». Они великолепно написаны, и критика с полным основанием говорит об этом [2]. Как правило, очерки и эссе Фицджеральда написаны очень образно и во многих деталях в самом деле как бы перекликаются с его рассказами. А. Майзенер превосходно показывает это в упомянутом предисловии, но нас сейчас интересует другое. Оба сборника в изобилии содержат материал, позволяющий в определенной мере судить о том, как непосредственное чувство (впечатление) или жизненное наблюдение преобразуется Фицджеральдом в элемент художественного повествования, и не только в рассказе. Рассмотрим несколько примеров. В очерке «Отзвуки века джаза» (1931) Фицджеральд, характеризуя период 20-х годов, пишет: «То было время, когда мои сверстники начали один за другим исчезать в темной пасти насилия... Одного прикончили в подпольном кабаке в Чикаго, другого избили до полусмерти в подпольном кабаке в Нью-Йорке, и домой, в Принстонский клуб, он дотащился лишь затем, чтобы тут же испустить дух...» (III, 405). Образность повествования здесь — не более чем средство выразить мысль, дать достаточное количество реальных примеров одного и того же плана, разнообразно оформленных лексически. Фицджеральд в данном случае не столько художник, сколько наблюдатель, социолог, и характеристика времени дается прямо, причем сопровождается надлежащим обоснованием. Как ни насыщен содержательно каждый абзац очерка, как ни прочна связь между абзацами, контекстуальное положение приведенного отрывка (конечно, и других пассажей тоже) лишено собственно художественного значения, зато полностью соответствует уже выясненной цели. Характеристика сходного сообщения в художественном произведении оказывается принципиально отличной и неизмеримо более сложной.
Сходство приведенного сообщения с известием о гибели Эйба Норта («Ночь нежна») буквально бросается в глаза. Дик узнает о смерти Эйба от Барбана, причем поглощенный своими мыслями, он не сразу понимает, о ком идет разговор. Место безымянного сверстника автора (в очерке) занимает подробно охарактеризованный и всесторонне «показанный» герой, к вести о гибели которого читатель не может отнестись равнодушно. Подробности смерти Эйба выясняются в сложном полилоге, который ведут Барбан и его спутники, вступающие в нелепый спор относительно того, приполз ли Эйб умирать в Рэкет-клуб или Гарвардский клуб. Следуют ссылки на газету, поверхностные суждения о музыке Эйба. Место анализа и объяснения занимает «показ»: «Избили в пьяной драке, и он умер...», «... Эйб Норт умер, избитый в пьяной драке...» (II, 222). Эти мысли Дика (а чуть выше его взволнованные и потому отрывистые вопросы) как бы прерывают упомянутый спор о клубе, создавая иную, отличную линию восприятия трагической вести. Полилог обрывается сообщением о поступках Дика, а также Барбана и князя Челищева. В описании этих простых по сути, но сложных по художественным функциям движениях «сквозит» всестороннее противопоставление Барбана и Челищева Дику и Эйбу, включающее важнейший эмоциональный момент, оно незаметно продолжается до конца эпизода как в новом полилоге (Дик, Барбан, Челищев), так и в описании. В контексте всего повествования место, выбранное автором для сообщения о смерти Норта, также оказывается художественно значимым. Иначе говоря, налицо эффект точной художественной организации повествования. В отличие от того, как это делается в очерке, сообщение дается в живых образах, оказывается полифункциональным, главное же — заставляет как бы увидеть искусно построенную сцену, представляющуюся совершенно реальной. Обращено сообщение не только к уму, но и к эмоциям читателя, причем сами эти эмоции в большой мере определяются атмосферой произведения.
Другой характерный пример находим в очерке «Мой невозвратный город» (1932). Фицджеральд пишет о том, как он сам узнавал Нью-Йорк, рассказывает о собственных впечатлениях, относящихся к 1919 году: «Нью-Йорк блистал всеми красками жизни, словно в первый день творенья. Возвращавшиеся из Европы солдаты маршировали по Пятой авеню, и сюда, на Север и Восток, со всех концов страны устремлялись навстречу им девушки; американцы были величайшей нацией в мире, в воздухе пахло праздником. В субботу к вечеру я появлялся, как призрак, в красном зале отеля «Плаза», или на изысканных приемах в садах богачей... и со мною всегда была другая моя жизнь — унылая комната в Бронксе, клочок пространства в вагоне подземки...» (III, 411 — 412). Этот сокращенный нами отрывок сочетает объективное впечатление от города с автобиографическими мотивами, причем положение автора, раскрывающееся в описании его мыслей и чувств, представляется вовсе лишенным силы обобщения.
Вновь художественное произведение оказывается в этом плане принципиально отличным. Приведенный пассаж напоминает начало рассказа «Первое мая», где дается описание Нью-Йорка той же поры. Но здесь автобиографический момент исчезает или, лучше сказать, объективируется, а ирония, едва намеченная в очерке, в рассказе задает тональность характеристике города: так выглядит общая «заставка», как бы введение к рассказу, а трагический характер иронии и значение социально содержательных обертонов «заставки» полностью раскрываются в рассказе, повествующем, в отличие от очерка, о гибели героя. При этом трагедия обретает несомненные признаки социального обобщения, частный случай выступает как типичный, что и составляет фундамент того единства, которым отмечены ироническая «заставка» и собственно рассказ. Можно было бы привести множество подобных примеров, каждый из них имеет свои особенности, но, вероятно, сказанного достаточно, чтобы увидеть, как преображается конкретный факт (впечатление, действие) при «переносе» из очерка в художественное произведение. Перейдем к непосредственному освещению проблем эстетики в эссеистике писателя.
Образность, красочность языка, элементы иронии, четкость изложения мысли, смелая откровенность характеризуют всю нехудожественную журнальную прозу Фицджеральда, но, как правило, статьи и очерки 20-х годов заметно отличаются тональностью от более поздних. При всей серьезности раздумий молодого писателя в его ранней эссеистике преобладают светлые краски. Фицджеральд часто прибегает к юмору. В 30-х годах тон становится значительно менее радостным, размышления — более глубокими, внимание чаще концентрируется на трагических аспектах действительности. Если говорить об эстетической проблематике эссе и статей Фицджеральда 30-х годов, то можно выделить две основные линии. Одна рассматривает особенности индивидуального дарования и психологию творчества самого Фицджеральда, другая ставит, на личном примере, важную проблему ответственности таланта перед обществом и самим собой. Первая подробно отражена в очерке «Сто фальстартов» (1933).
Выше уже говорилось, что дарование Фицджеральда было по существу лирическим. Именно этим, скорее всего, объясняется его близость к английским поэтам-романтикам, так хорошо показанная в работе А. Н. Горбунова. Рассказывая о бесплодных попытках начать художественное произведение, писатель анализирует свои неудачи и приходит к выводу, что для него отправным пунктом неизбежно является собственное глубокое переживание. Такие переживания, утверждает Фицджеральд, в жизни каждого писателя случаются два-три раза, и они-то становятся основой всего его художественного творчества. Этим и объясняется, по мнению автора, единство его тематики, в каждом новом произведении предстающей в новом обличий, оставаясь в принципе той же. Фицджеральд пишет: «Идет ли речь о чем-то, случившемся двадцать лет назад, или только вчера, я должен начинать с эмоции — такой, которая близка мне и которую я могу понять» [3]. А чуть ниже он определяет постоянно испытываемое затруднение следующим образом: «Сюжеты без эмоций, эмоции без сюжетов» [4]. Так, вероятно, объясняются неудачи писателя при попытках создать исторический роман. Подобно другим «потерянным», Фицджеральд опирался прежде всего на собственный опыт, и масштабность его дарования проявляется, между прочим, в том, что ему удалось, как внешне ни бедна большими событиями его жизнь, показать «в различных обличиях» нравственную несостоятельность и антигуманистическую сущность несправедливого социального устройства.
В отличие от многих «потерянных», Фицджеральд, как уже говорилось, с самого начала воспринимал время в единстве исторического процесса. Прошлое буквально оживало для него, обретало «зримость», находило чувственное проявление в современных ему событиях. Так обусловливалась не только глубина его социального анализа, отраженная в художественных произведениях задолго до того, как другие «потерянные» восстановили для себя «связь времен», но и высокое эстетическое качество его романов и многих рассказов, в которые история входит живым дыханием и «просматривается» в настоящем во всей реальности. Лучшие произведения писателя столь значительны потому, что в сжатой, «лирической» форме, тяготеющей к синтезу, отражают огромное и многообразное содержание, непосредственно затрагивающее основы жизни человека в мире XX в. Очерк «Сто фальстартов» вводит нас в рабочую лабораторию писателя, помогает уяснить особенности его творчества.
Исключительно интересен и вывод, которым писатель заключает характеристику своего творческого процесса. Вывод этот состоит в том, что писатель-профессионал должен работать даже тогда, когда переживает творческий кризис, и даже в том случае, если этот кризис сопровождается серьезными личными неприятностями. Писатель заканчивает очерк утверждением, уже не только характеризующим присущую ему индивидуальную творческую манеру, но имеющим общее значение. Эстетическое начало он связывает с этическим. Так намечается переход ко второму основному направлению разработки эстетической проблематики в эссе и очерках Фицджеральда.
Самые значительные эссе Фицджеральда, обычно объединяемые под названием «Крушение» («Крах»), появились не вдруг. В течение многих лет писателя связывала тесная дружба с замечательным американским новеллистом и прекрасным человеком Рингом Ларднером, умершим в 1933 г. Фицджеральд, тяжело переживший смерть друга, посвятил ему очерк, исполненный глубокого искреннего чувства. Этот взволнованный отклик на печальное событие можно было бы анализировать как образец лирической прозы, но нас сейчас больше интересуют мысли автора, считавшего своим долгом, помимо прочего, объективно оценить литературную деятельность старшего собрата по перу.
Фицджеральд с горечью констатирует: «...сделанное Рингом, сколь бы значительным оно ни было, меньше того, что он мог бы сделать...» (III, 423). К этой же мысли он возвращается несколько ниже: «...думая о нем сейчас, испытываешь боль не только от самой потери, но еще и оттого, что в написанном Ринг выразил самого себя меньше, чем любой другой американский писатель первого ряда» (III, 425). Еще через несколько строк читаем: «...я оказал бы плохую услугу Рингу, если бы призвал собрать все им написанное и соорудить из этой кипы пьедестал...». Как видно, Фицджеральд прекрасно понимает, что не природная ограниченность дарования помешала Ларднеру создать больше выдающихся художественных произведений, и, естественно, пытается выяснить причины этого грустного обстоятельства.
Здесь особенно интересны три момента. Фицджеральд прямо пишет о «циничном отношении (Ларднера. — Ю. Л.) к собственному творчеству» (III, 423). Конечно, такое отношение не возникает само по себе, без субъективных и объективных причин, но прежде всего следует отметить важность постановки вопроса. Фицджеральд подчеркивает необходимость серьезного отношения к писательскому труду. Говоря о Ларднере, автор очерка, по-видимому, думал и о себе, подвергал строгому суду собственную литературную работу и формулировал принципы, имеющие общее значение.
Второй существенный момент также находит четкое выражение: «...какие бы диковинки Ринг ни умудрялся откопать, роясь на участке, который возделывал, сам-то участок был по размерам не больше бейсбольной площадки... На этом-то пути Ринга и ждал творческий тупик, и впереди были еще и еще трудности. Пребывая в своем тесном мирке, писал он превосходно — здесь он сумел различить и передать голоса всей страны. Но вот пришло — не могло не прийти — время, когда он перерос этот мирок. И что же осталось?» (III, 423). Речь идет о кругозоре писателя. Из сказанного Фицджеральдом со всей очевидностью следует, что, по его убеждению, масштабу дарования непременно должен соответствовать масштаб охвата явлений действительности. Кроме того, отмечает Фицджеральд, писателю необходимо мужество, когда он задается целью отобразить большую проблематику современности. Здесь уже намечается переход к последнему интересующему нас в данном случае моменту.
Фицджеральд далек от мысли преуменьшать значение субъективных факторов, но в очерке уделяется внимание и факторам объективного ряда. На примере Ларднера писатель показывает значение той среды, того окружения, в котором проходит жизнь художника, особенно в годы формирования характера и творческого созревания. Трагедию Ларднера Фицджеральд видит в том, что потенциальные возможности его дарования не были полностью реализованы. При этом писатель не мог не заметить, что сказанное о Ларднере в большой мере относится к нему самому. «Исповедь», сделанная в «Крушении», готовилась исподволь, высказанные в ней мысли были близки Фицджеральду уже в начале 30-х годов, но время, отделяющее очерк «Ринг» от эссе «Крушения», оставило в уме и сердце писателя собственный немаловажный след.
«Крушение» было опубликовано в журнале «Эсквайр» в феврале 1936 г., в марте того же года журнал напечатал второй автобиографический фрагмент «Осторожно! Стекло!», а в следующем месяце эссе «Склеивая осколки» завершило цикл. О значении «исповеди» Фицджеральда косвенно свидетельствует внимание, проявляемое к ней серьезной критикой. В 1936 г. «Крушение» было воспринято как своего рода сенсация, что и обусловило характер откликов, но с течением времени оценки стали глубже и справедливее. К. Эбл, например, совершенно правильно отмечает сходство «Крушения» с лучшими образцами художественной прозы Фицджеральда, причем видит это сходство в истинности изображаемого в эссе характера [5]. К. Кросс, полемизируя с некоторыми другими критиками, отводит всему циклу место среди «самых волнующих литературных документов нашего века» [6]. Литературные достоинства всех этих эссе ныне общепризнанны.
Не оставили цикл без внимания и советские литературоведы. «Эти статьи, — пишет А. Старцев,— один из самых трагических литературных документов во всей новейшей американской литературе» [7]. Исследователь выделяет следующие моменты «исповеди»: признание Фицджеральда, что он пришел к моральному банкротству, причем понял это с опозданием; выяснение причины «краха», состоящей в том, что Фицджеральд «прожил... шестнадцать лет со дня выхода своей первой книги, не выполняя своих интеллектуальных и общественных обязательств, не сознавал своего долга перед собой и перед обществом, жил бездумно и безответственно» [8]; признание пассивного отношения к действительности «роковым признаком» нравственного крушения; наконец, постановку писателем вопроса о его отношениях и связях с господствующим классом [9]. А. Н. Горбунов с полным основанием полемизирует со многими ранними критиками «исповеди» и характеризует «Крушение» как «одно из лучших и наиболее поэтических произведений писателя» [10].
Действительно, «Крушение» обладает всеми достоинствами замечательного лирического произведения, его близость к поэтической лирике представляется несомненной. При чтении этих эссе возникает уверенность, что Фицджеральд глубоко прочувствовал все, о чем пишет. Послужившая некогда поводом для бесчисленных нападок смелая искренность писателя сейчас вызывает восхищение. Отметим, в свою очередь, некоторые важнейшие положения, неоднократно обсуждавшиеся критикой.
Писатель прямо обвиняет себя в том, что «и раньше не так уж ревниво оберегал вверенное мне добро, в том числе — собственный талант» (III, 430). Это и есть основной мотив первого эссе, и нетрудно заметить его сходство с аналогичным положением в очерке, посвященном Ларднеру.
Во втором эссе находим крайне резкую оценку собственного литературного труда, сделанную в выразительной метафорической форме: «Случается ведь, что и для треснувшей тарелки находится место в серванте, что и она еще на что-то годится в хозяйстве. На горячую плиту ее больше не поставишь, и мыть ее нужно отдельно; когда приходят гости, ее не подают на стол, но после можно сложить в нее печенье или остатки салата, убирая их в холодильник» (III, 435). Кроме того, во втором эссе цикла резко звучит социальный мотив, только намечавшийся в очерке о Ларднере. Фицджеральд откровенно пишет о своей ненависти к богатым, признавая в то же время, что сам работал «для денег, которые были нужны, чтобы вести такой же вольный образ жизни и сообщать будням известное изящество, как умели некоторые из них» (III, 437). Так в социально заостренной форме ставится тот же вопрос об отношении к таланту и опасностях, таящихся в компромиссной позиции.
В третьем эссе писатель, резко критикуя свои заблуждения, недвусмысленно заявляет о намерении продолжать работу.
Нельзя не признать справедливости сделанного Фицджеральдом анализа. Все же некоторые замечания, по 1 нашему мнению, совершенно обязательны. Глубоко переживая свой кризис, испытывая понятное чувство вины за компромиссы, на которые шел, писатель, естественно, делает слишком радикальные обобщения. Вопрос о том, почему он на протяжении многих лет считал свое дарование второстепенным, охотно признавая превосходство других, чрезвычайно сложен и затрагивает такие аспекты его психологии, рассматривать которые здесь не место. Заметим лишь, что в суждениях Фицджеральда, при всей их справедливости и значительности, находит отражение не всегда оправданный субъективизм. Это легко понять, но это же и необходимо учитывать при оценке громадного вклада, внесенного писателем в американскую и мировую литературу XX в. Говоря о себе и своем творчестве, Фицджеральд судит в целом, акцентирует моменты нравственной несостоятельности и никак не выделяет лучшее из того, что создал. В 1936 г. Фицджеральд писал о своем прошлом и настоящем. Будущее он видел в работе, но уже как бы «делал поправку» на пресловутую трещину, сам себя уверил в ограниченности своего дарования, «зачислил» во «второй ряд», а время показало, что этот вывод был слишком поспешным.
Далеко не каждое слово «Крушения» следует воспринимать буквально. Подлинная жизнь писателя, как известно, в его книгах, и роман «Последний магнат» свидетельствует, помимо всего прочего, о том, что творческий и личный кризис, отраженный в цикле «Крушение», был в определенном смысле плодотворным, явился болезненным, но необходимым этапом на пути к произведению, которое и в незаконченном виде представляет собой образец большого искусства.
*
Упоминания о новом романе на современную тему появляются в письмах Фицджеральда, относящихся уже к 1938 г. Трудно сказать, когда именно замысел оформился окончательно, но активная работа над «Последним магнатом» началась лишь в сентябре 1939 г. Писатель успел завершить только шесть глав, меньше половины произведения, и это был первый вариант, требовавший существенной переработки. Тем не менее, когда через год после смерти автора написанный отрывок был опубликован, стало ясно, что он представляет собой значительное литературное явление.
Первые критические отклики появились почти немедленно. С. Бене отозвался о романе восторженно («Теперь вы можете снять шляпы, джентльмены...»). Критик справедливо писал, что «Магнат» — единственная в своем роде книга о Голливуде. Он ценил ее высокое художественное качество, а также сложность и в то же время последовательность (достоверность) характера главного героя. Заметив, что образ Стара является определяющим для произведения в целом, С. Бене указал на двойственность положения центрального персонажа, на его силу и слабость, обусловливающие трагизм романа: «Тот механизм и та жизнь, которые он помог создать, должны, в конце концов, уничтожить его» [11].
Другие серьезные критические работы, появившиеся в сороковых годах, также дают книге высокую оценку. При этом отмечаются некоторые весьма важные моменты. Так, в обрисованной писателем ситуации У. Трой обнаруживает символику, уподобление Стара современному Икару [12]. М. Каули находит, что на этот раз Фицджеральд проявил более глубокое, чем в «Гэтсби», понимание сложностей жизни [13]. Дос Пассос полагает, что в «Магнате» Фицджеральду впервые удается выработать непоколебимую этическую позицию «по отношению к миру, в котором мы живем, и его временным стандартам...» [14]. Кроме того, Дос Пассосу принадлежит важное «техническое» наблюдение. В обрисовке Стара, по его мнению, интимность сочетается с отстраненностью, что создает специфическую возможность расширить сферу изображаемого [15]. Э. Кейзин объявляет Стара «величайшим из достижений Фицджеральда» [16].
В последующие годы одни исследователи уделяют особое внимание выявлению существенной социальной проблематики произведения, связанной в первую очередь с образом Стара, а других больше интересуют вопросы стиля. Дж. Олдридж, например, обнаруживает сходство образах Стара и Гэтсби: оба в основном не подвержены коррупции, но обречены в результате действия большей коррумпирующей силы [17]. А. Майзенер находит в романе отражение жизни не только современной Америки, но и всей истории страны [18]. Дж. Миллер-младший, отмечая социальное звучание книги, касается темы крушения американской мечты [19].
Социальную насыщенность «Магната» акцентируют в большинстве случаев и те критики, которых особенно занимают вопросы писательского мастерства. М. Миллгейт полагает, что Фицджеральд не вполне успешно пытался одновременно создать два романа — психологический и социальный, критикует намеченную автором повествовательную перспективу, а также считает, что Фицджеральд сознательно проводил аналогию между Старом и Линкольном [20]. Ф. Дж. Хоффмен и Д. Б. Пристли тоже критикуют повествовательную перспективу, причем последний «подозревает», что писатель в конце концов вынужден был бы заменить Сесилию Брейди другим рассказчиком [21]. К. Кросс отмечает, что до «Магната» диалог нигде не удавался Фицджеральду в такой мере [22]. А. Лэтем особенно выделяет драматизм произведения, его насыщенность действием, напоминающую кино [23]. Дж. Харт находит в книге многозначительную символику [24]. С. Пероза подчеркивает органичность обрисовки Голливуда, сбалансированное слияние реализма и символизма, характеристику персонажей исключительно через действие, драматическую интенсивность диалога и вообще основополагающее значение действия, отражающееся и в насыщенности фразы глагольными формами [25].
В посвященной «Последнему магнату» критической литературе есть немногочисленные резко отрицательные суждения. Первое из них появилось в статье «Власть без славы» (1950), анонимный автор которой не видит никаких оснований для сопоставления «Магната» с «Гэтсби» [26]. Аналогичную оценку дает книге К. Эбл [27]. Ч. Сэмюэлс находит, что «Последний магнат» — «не очень интересный роман» [28]. Среди отрицательных мнений есть и основанное на субъективном впечатлении, связанном, по-видимому, с личными воспоминаниями. Принадлежит оно Лиллиан Хеллман, обвиняющей писателя в сентиментальном приукрашивании Ирвинга Тальберга (прототип героя романа) [29].
Из советских литературоведов наиболее подробно анализирует произведение А. Н. Горбунов. Исследователь с полным основанием полагает, что Фицджеральд очень удачно избрал Голливуд в качестве фона действия, отмечает содержательный контраст сказочно-романтических мотивов и малопоэтической действительности, дает подробную справку о прототипе Стара, определяет двойственность характера героя: Стар прежде всего магнат, но в то же время художник. Кроме того, А. Н. Горбунов показывает отличие Кэтлин от прежних героинь Фицджеральда, останавливается на образе Бриммера и в целом характеризует роман как драматический, причем особенно подчеркивает господство «принципа максимальной конкретизации» в языке и драматическую насыщенность диалога [30].
Трудности, возникающие при попытке анализировать книгу, обусловливаются не столько даже ее незавершенностью, сколько тем, что и написанные шесть глав представляют собой, как упоминалось, лишь первый вариант. Даже поверхностное знакомство с текстом позволяет обнаружить подлежащие устранению шероховатости. Известно, как тщательно писатель отделывал свои произведения, и представляется совершенно очевидным, что окончательный вариант «Магната» значительно отличался бы от начального. М. О. Мендельсон не без основания утверждает, что «замысел автора в достаточной мере не определился» [31]. Тем не менее идейно-художественное значение «Магната» кажется нам несомненным. Помогает в анализе то, что известен авторский план-конспект романа. Конечно, в процессе работы он мог меняться, но основная направленность скорее всего была бы сохранена. Трудно представить, как именно Фицджеральд непосредственно воплотил бы свой замысел. Так или иначе основываться приходится на том, что есть, но с учетом общей канвы, намеченной писателем.
Герой романа талантливый продюсер Монро Стар — магнат, один из совладельцев крупной голливудской кинофирмы. История последних месяцев его жизни определяет сюжет произведения. Повествование «поручено» молодой девушке Сесилии Брейди, безнадежно влюбленной в Стара дочери его делового партнера. Сесилия рассказывает о событиях пятилетней давности, дополняя собственные наблюдения сведениями, почерпнутыми у друзей и знакомых, так или иначе связанных с героем.
Сюжет книги отличается насыщенностью действием и напряженностью, необычными даже для «Великого Гэтсби». Отчасти это объясняется тем, что непосредственное развитие действия в условном настоящем неразрывно связывается с целой серией более или менее значительных событий, из которых складывается типичный рабочий день героя. Возникает обобщенная картина деятельности Стара, показу которой отведены две главы, но одновременно разворачивается и конкретное действие, отличающее данный день от всех остальных, то есть происходит движение сюжета. Таким образом, главы третья и четвертая, получившие название «День продюсера», служат основой всего дальнейшего повествования. При этом история Стара-продюсера и Стара-человека предстает в единстве и чрезвычайно тесно связывается с фоном, который как бы вводится в действие. В результате любой, даже маленький эпизод, характеризующий Стара, обретает полифункциональность, становится существенным для развития основной сюжетной линии и обрисовки фона. Отсюда исключительная «плотность» всего романа.
В «Гэтсби» деловая жизнь героя почти целиком остается «за кадром», поскольку эта сторона его деятельности и личности не так уж существенна. В «Последнем магнате» сюжет предусматривает полное и всестороннее раскрытие образа главного героя и каждая деловая (профессиональная) деталь или подробность становится важной. Вероятно, можно сказать, что собственно сюжет «Магната» насыщен смыслом, содержательно наполнен в каждом мельчайшем движении или «повороте». Поэтому даже в первом варианте написанных глав достигается органическое слияние формальной и содержательной сторон произведения. Понятно, что при кратком изложении сюжета упрощения неизбежны.
Монро Стар, один из магнатов кинобизнеса, стремится создавать подлинно художественные фильмы, не выходя из рамок деловой системы Голливуда, и, естественно, оказывается между двух огней. С одной стороны, ему приходится преодолевать яростное сопротивление партнеров, единственной целью которых является получение прибыли. С другой стороны, он вступает в конфликт с профсоюзами киноработников. Не будет преувеличением сказать, что вся жизнь Стара, если исключить несколько часов ночного сна, либо проходит на студии, либо является продолжением работы за ее пределами. На студии же Стар случайно встречает женщину, удивительно похожую на его жену (кинозвезду Минну Дэвис), умершую за несколько лет до событий, с которых начинается рассказ Сесилии. Замужество Кэтлин Мур обрывает едва завязавшийся роман. Находясь под впечатлением этой новой потери, Стар встречается с деятелем профсоюзного движения коммунистом Бриммером. Во время встречи Стар слишком много пьет, и свидание заканчивается скандальной дракой. Этот эпизод завершает написанную часть книги.
По заметкам писателя Эдмунд Уилсон составил краткий конспект дальнейшего. Стару предстояло посещение Вашингтона, так как нужно было предотвратить сокращение заработной платы на студии. Его отсутствием воспользовался Брейди, которому обманным путем удалось добиться большого сокращения зарплаты многим категориям служащих. Когда Стар возвратился из поездки, он оказался в крайне осложнившемся положении: «Красные теперь считали его консерватором, а Уоллстрит—красным» [32]. Брейди, узнавший о Кэтлин, пытается шантажировать Стара, и герой романа оказывается вынужденным прибегнуть к подобным же недостойным методам. Поглощенный борьбой с профсоюзом, тяжело больной Стар боится, что Брейди попытается организовать его убийство, и не останавливается перед встречными мерами. Чтобы скрыть следы преступления, Стар устраивает себе поездку в Нью-Йорк. Уже в самолете он осознает, что опустился до уровня Брейди, собирается «отменить» затеянное убийство, но, не успев сделать этого, гибнет в авиационной катастрофе. В описании торжественных похорон Стара автор собирался нарисовать язвительную сатирическую картину всепроникающего голливудского лицемерия. Смерть «последнего магната» приводит к полному торжеству коммерческого начала в кинопроизводстве.
Сюжет романа позволил Фицджеральду, не замедляя действия, показать американский кинобизнес как бы в разрезе. Стар вступает в деловой и в то же время личный контакт с финансистами, профсоюзными деятелями, киноактерами разных рангов, режиссерами, сценаристами, операторами, художниками, служащими и рабочими фирмы. Действие романа относится к тридцатым годам, насыщенным бурными социальными событиями. За стенами студии Стара легко «просматривается» весь Голливуд. Прием показа целого через часть оказывается тем более убедительным, что в избранной автором художественной модели действительности нашли естественное отражение вполне реальные связи, объединяющие обособленные в определенной мере и конкурирующие фирмы в единую систему капиталистического кинопроизводства. Кроме того, фон действия получает пространственный аналог во внешней картине Голливуда, показываемой с различных точек зрения и в смене разнообразных планов. По сей день в литературе США нет ни одного романа, в котором структура, внутренние отношения, весь процесс создания фильма и вся сущность Голливуда раскрывались бы с такой глубиной и полнотой, с таким знанием дела и художественным совершенством, как в неоконченном произведении Фицджеральда.
Пребывание и работа в столице американской кинопромышленности раскрыли перед писателем ее секреты, позволили уловить атмосферу города, в котором все связано с кино. Фицджеральд тонко определяет присущую Голливуду внутреннюю противоречивость. К началу 30-х годов кинопроизводство в США окончательно превратилось в прибыльную отрасль промышленности, подчиняющуюся тем же законам, что и производство, например, автомобилей. Общеизвестно, что господство монополий и поточный выпуск фильмов привели к нивелировке творческого начала, превратили искусство в ремесло, высокий технический уровень продукции оказался в кричащем противоречии с поразительно низким уровнем ее содержания, обычно укладывающегося в несколько детально разработанных и бесконечно варьируемых стандартных схем. Разумеется, искусство противилось этому процессу, и Фицджеральд, отобразив едва ли не самый острый период голливудской истории, показал внутреннее содержание упомянутого конфликта, исход которого в рамках данной социальной системы был уже, конечно, предрешен.
Раскрытием драматической истории Голливуда замысел писателя отнюдь не исчерпывается. Чтобы оценить его в полной мере, необходимо подробнее остановиться на образе главного героя романа.
В образе Стара отразилось присущее Фицджеральду тонкое чувство времени. Все более приближая к жизни свою художественную модель, Фицджеральд-романист видит приметы времени в существенных социальных проявлениях, причем правильно выделяет ведущую тенденцию. Не случайно автор дал роману название «Последний магнат». Конечно, Стар не был последним магнатом вообще, но многие особенности его личности определяются тем, что он, несомненно, был последним в своем роде. Коммунист Бриммер прекрасно понимает, что Стар не такой, как другие боссы: «Говоря откровенно, мистер Стар, мы видим в вас помеху именно потому, что вы предприниматель «отеческого» толка и ваше влияние очень велико» (II,479).
Стар пришел в кинематографию, когда еще можно было, в исключительных случаях, сделать головокружительную карьеру, опираясь только на собственные таланты и другие достоинства. Стар и сделал такую карьеру, но на его глазах движение времени исключило самую возможность повторения чего-либо подобного. Кинопромышленность почти мгновенно прошла «патриархальный» этап, и Стар, при всей его «незаменимости», оказался в определенной мере архаичным, чуть ли не пережитком прошлого. Тем не менее методы Стара оказываются действенными и, главное, отвечают его характеру. Отсюда, кстати, целостность и реалистичность, объемность образа. Сложность положения Стара в значительной мере определяется тем, что система, в создании которой он активно участвует, в сущности своей враждебна всякому проявлению человечности. Будучи порождением этой системы, Стар принимает ее, он не может выйти за ее рамки. Позиция главного героя неизбежно оказывается компромиссной, а следовательно, как показывает Фицджеральд, несостоятельной. Стар обречен на гибель не только объективным ходом событий, но и потому, что не может отказаться от попыток сочетать несочетаемое: талантливый и удачливый делец, он в то же время — романтик.
Стар вышел из низов, не получил образования, не умеет осмыслить социальную структуру общества. Между тем он действительно талантлив, является превосходным организатором, обладает исключительными профессиональными данными и чутьем. Его и терпят — до поры до времени — потому что он умеет добиться успеха там, где других постигает неудача. Чтобы понять, как взаимоисключающие, казалось бы, качества и черты «уживаются» в одной личности, нужно помнить, что Стар — американец. В сцене его встречи с Бриммером есть интересный микроэпизод. Сесилия рассказывает: « — Мне ваш приятель нравится,— сказал он.— Свихнувшийся, а нравится.— Он прищурился на Бриммера: — Родились в Америке?» (II, 475). Этот вопрос, конечно, не случаен. Поднявшийся из низов Стар в собственных глазах как бы воплощает все тот же американский миф о равных возможностях для каждого. Как ни странно, Бриммер, в котором Стар без труда распознает крупную личность, кажется ему еще одним подтверждением справедливости этой наивной идеи. Сделав определенные оговорки, можно сказать, что Стар в некотором отношении напоминает Гэтсби, а в отличиях Стара от Гэтсби отражена и разница между 20-ми и 30-ми годами в США.
Сфера деятельности Стара оказалась исключительно удачной для полного раскрытия его характера. Где еще романтик мог бы так проявить себя, если не на «фабрике романтических грез», в изобилии поставляемых Голливудом? Личность Стара полностью реализуется в его работе, и столкновение романтического и «реалистического» начал равно неизбежно в его душе и в его деятельности. Стар не жалеет ни сил, ни энергии, ни таланта, заставляя крутиться колеса огромной машины кинобизнеса, но в то же время он использует все свое влияние, прибегает к умелой дипломатии, чтобы побудить своих компаньонов на убытки ради создания подлинно художественных, не коммерческих, а «престижных» фильмов. В отношении Стара к делу и людям чувство ответственности художника перед зрителем сочетается с чувством принадлежности к системе, в которой царит, по известному выражению К. Маркса и Ф. Энгельса, «бессердечный чистоган» [33]. Так, в результате случайной встречи с негром, не посещающим и не пускающим своих детей в кино, Стар принимает показательное решение: «Надо сделать фильм, да не один, а десяток фильмов — и доказать ему, что он неправ. Под влиянием слов негра Стар уже вычеркнул мысленно из планов четыре картины... И снова включил в свои планы трудноотстаиваемую картину, которую бросил было на съедение волкам — Бренди, Маркусу и прочим,— чтобы взамен добиться своего в другом пункте. Восстановил эту картину ради негра» (II, 447).
Тема неизбежных компромиссов проходит через весь роман. Компромиссы лежат в основе намеченного сопоставления героя с Линкольном, и автор не упускает ни одной возможности показать, как часто Стару приходится прибегать к ним, причем не только в работе, но и в личной жизни. Когда, например, Стар «умиротворяет» писателей, недовольных творческой обезличкой, его словам сопутствует показательное пояснение: «Система работы позорная,— признал он,— грубая, прискорбно коммерческая. Он не упомянул лишь, что сам ее создал» (II, 409). Та же линия прослеживается в беседах Стара с талантливым, но презирающим кино писателем Боксли и во многих других случаях. Даже странная, на первый взгляд, нерешительность Стара в тот момент, когда от него одного зависит женитьба на Кэтлин Мур, несет в себе оттенок компромисса: «Он мог бы сказать ей сейчас: «Нет, это именно новая жизнь»,— ведь он знал, что так оно и есть, знал, что не может расстаться с ней теперь; но что-то еще в нем твердило: «Решай как зрелый человек, а не романтик. Повремени до завтра» (II, 468). Вся жизнь и деятельность, вся личность Стара отмечены неотвратимой двойственностью.
Характер героя раскрывает таящуюся в компромиссах нравственную опасность. Существенной динамике образа Стара только предстояло раскрыться в главах, оставшихся ненаписанными, но и в начерно завершенной части показано, как прочно «реализм» внедрился в душу героя. «Дорогой Монро, лучше Вас в Голливуде нет никого, я всегда восхищался Вашим умом, и если уж Вы отворачиваетесь, значит нечего и рыпаться. Видно, я совсем стал никуда, и я не лечу дальше. Еще раз прошу, берегитесь! Я знаю, что говорю» (II, 362), — пишет Стару за несколько часов до самоубийства разорившийся Шварц. Стар только что отказал ему в помощи, потому что не любит, «когда проситель уверяет, что это ради моего же блага» (II, 362). «Лучший в Голливуде» Стар проявляет жестокость. Возможно, догадайся он, что для Шварца это была последняя надежда, его ответ был бы иным, но в том-то и дело, что непогрешимое чутье изменяет герою, как и в сцене объяснения с Кэтлин. Стар слишком много вложил в бизнес, и законы бизнеса цепко держат его. Трагическая ирония ситуации должна была полностью раскрыться в дальнейшем: но замыслу автора, Шварц, преследуя собственные интересы, в самом деле мог оказать Стару услугу и в записке предостерегал его, так как знал о грязных замыслах Брейдн.
Стар, конечно же, индивидуалист, и писатель находит случай обобщенно показать доминантный принцип отношения героя к жизни, принцип, по-своему отразившийся в рассмотренных эпизодах. В первой главе романа рассказывается о беседе Стара с летчиками. «„Допустим, вы путеец, железнодорожник, — говорил он. — Вам надо пробить трассу где-то здесь через горы. Топографы дают вам карты, и вы видите, что возможны четыре, пять, шесть вариантов, каждый не хуже другого. И вам надо решать — на основании чего же? Проверить выбор можно, только проложив трассу. И вы ее прокладываете". «То есть?» — не понял пилот. «То есть делаете выбор по чутью — потому лишь, что эта вот гора приглянулась своим розоватым оттенком или та вот схема дана отчетливей на синьке. Понимаете?» Пилот счел совет весьма ценным. Но усомнился, представится ли случай применить его» (II, 366). Заключительные фразы приведенной цитаты очень важны. В том, как летчик воспринял сказанное ему, сквозит авторская ирония. (Потому-то его ответ и не дается в прямой речи). Она как бы предвосхищает как раз те существеннейшие эпизоды романа, в которых интуиция изменяет главному герою.
Во всех шести написанных главах характер Стара всесторонне раскрывается с неумолимой логичностью и последовательностью. Стар является как бы точкой пересечения бесчисленных нитей, образующих паутину Голливуда, но значение его образа много шире голливудских рамок как типичных черт капиталистического предпринимательства. В крушении Стара отражено торжество бесчеловечной системы, нравственно и физически разрушающей личность. Подобно Гэтсби, Стар богато одарен от природы, и заострение конкретизируемой социально-политической проблематики романа находит отражение в том, что все черты незаурядной личности героя, все качества, выделяющие его из среды, подробно представлены в множестве замечательных жизненных сцен и эпизодов. В том же образе находит завершение разработка темы пресловутого американского мифа, мечты, воплощение которой в жизнь оказалось с США столь же невозможным, сколь невозможно воплощение самой жизни в жалкой схеме коммерческого фильма.
Проблематика произведения отражена и в других многочисленных характерах. Проанализировать все едва ли возможно, да и вряд ли нужно, но о некоторых необходимо сказать несколько слов.
Отчетливо прочерчен в романе контраст между Старом, с одной стороны, и Брейди, Маркусом и прочими боссами — с другой. Он призван не только оттенять соответствующие характеры, но имеет и большое содержательное значение. В написанных главах Брейди и Маркусу отводится не слишком много места, они даже могут показаться эпизодическими персонажами, но писателю удается в немногих сценах убедительно показать этих людей, их всеобъемлющее ничтожество, глубокую аморальность, неискренность, эгоизм, чудовищное непонимание того дела, которым они руководят, а иногда и прямую глупость во всем, что не касается прибыли. Роман Фицджеральда всесторонне и последовательно развенчивает капиталистического предпринимателя. В самом начале повествования сценарист Уайли беседует со Старом. «Ты не делец, — сказал Уайли. — Я их знавал, когда работал в рекламном отделе, и я согласен с Чарльзом Фрэнсисом Адамсом... Он знал их досконально — Гулда, Вандербилта, Карнеги, Астора — и говорил, что ни с единым дельцом его не тянет встретиться в грядущей жизни. А со времен Адамса они не стали лучше...» (II, 363). Так выглядит общее положение, которое затем находит полное обоснование и подтверждение в «живых», блистательно выписанных сценах. В отличие от Стара Брейди, Маркус и другие — дельцы до мозга костей. Не случайно на первой же странице романа Сесилия сообщает: «Мой отец на производстве фильмов делал бизнес, как делают бизнес на хлопке и стали...» (II, 349).
Образы боссов тщательно индивидуализированы в романе. Брейди и Маркус обрисованы как живые люди, они не похожи друг на друга, но особенной сложностью не наделяются. Это и понятно. Здесь важны не столько психологические нюансы, сколько глубина проникновения в сущность характера, и, развенчивая дельцов, Фицджеральд доводит развитии образа до конца — боссы хладнокровно идут на прямое преступление. В «Последнем магнате» писателя критика капиталистического предпринимателя резко заостряется, поскольку на этот раз соответствующие образы раскрываются не только в сфере личных отношений, но и в процессе «делания» денег.
Особое место в книге занимает образ Бриммера. Сюжетная линия этого важного персонажа только начинается в последней из написанных глав, но о значении Бриммера в произведении можно судить по тому, что глава почти целиком посвящена его свиданию со Старом. Кроме того, уже в этом эпизоде, вернее, нескольких эпизодах, Бриммер раскрывается настолько, что возникает возможность судить и о нем самом, и об отношении к нему автора. Так, Сесилия рассказывает: «Он был приятной внешности, этот Бриммер,— слегка смахивал на Спенсера Трейси, но лицо тверже, осмысленнее, выразительней. Глядя, как они со Старом улыбаются, обмениваются рукопожатием и принимают боевую стойку, я невольно подумала, что такую собранность, готовность к борьбе редко встретишь. С этой минуты они нацелили внимание друг на друга; конечно, оба были со мной любезны дальше некуда, по интонация у них сама собой делалась «облегченной», когда они обращались ко мне» (II,473).
Несколько моментов в этом «представлении» впервые появляющегося персонажа чрезвычайно интересны. Прежде всего можно отметить, что внешность Бриммера резко отличается от внешнего вида любого лица, упоминавшегося в предшествующих главах, причем в лучшую сторону. Фицджеральд рассчитывал, разумеется, на осведомленность читателя в том, как выглядит Спенсер Трейси, и то, что лицо Бриммера тверже и выразительней («a wider range of reactions» оригинала едва ли включает понятие «осмысленней») лица знаменитого киноактера, само по себе знаменательно.
Кроме того, с первых слов Сесилии ясно, что Стар и Бриммер встречаются как равные. До этого момента Стар неизменно занимал главенствующее положение, с кем бы ему ни приходилось вступать в контакт. И в тех случаях, когда его собеседники никак от него не зависят, не связаны с ним, они все равно испытывают влияние его незаурядной личности, и превосходство его индивидуальности утверждается немедленно. Именно так, например, объясняется нарушение полетных правил главным пилотом, разрешившим Стару лететь в кабине экипажа. Эта исключительность неизменно наглядно проявляется. Даже когда герою говорят, что его просит к телефону президент Соединенных Штатов, Стар, хоть и несколько взволнованный, не забывает пояснить находящейся с ним Кэтлин: «Мне уже приходилось говорить с ним» (II, 435). Разумеется, равенство Стара и Бриммера обусловлено, естественно, не одинаковым их положением в социальной иерархии, а масштабностью личности каждого. На протяжении всей беседы они ни в чем не уступают друг другу, и характер их диалога в этом отношении явно иной, чем в беседах Стара с другими действующими лицами.
Есть, вероятно, все основания утверждать, что Стар и Бриммер с первого мгновения встречи проникаются взаимным уважением. При этом не лишено значения, что Бриммер еще до свидания составил о Старе довольно верное представление, тогда как Стар хотел встретиться с любым коммунистом, и тон его в отношении предполагаемого собеседника был уже знакомым читателю тоном превосходства. Едва ли можно говорить, что Бриммер берет верх над Старом, хотя коммунист и держится в конце концов с большим достоинством. Срыв Стара, о чем речь впереди, объясняется, конечно, только его психологическим состоянием.
Из приведенных слов Сесилии следует также, что встречаются откровенные враги. Такая ситуация едва ли является новой в романс. Брейди, например, никак не назовешь другом Стара, но к отношениям компаньонов примешивается кое-что личное, а вражда Стара и Бриммера обусловлена только принципиальными соображениями. Рисуя образ Бриммера, Фицджеральд тщательно следит за всеми этими деталями.
Наивно было бы говорить, что писатель разделяет позицию коммунистов, но в эпизоде моральная правота Бриммера объективно неоспорима. В отличие от Стара Бриммеру чужда какая бы то ни была двойственность. Конечно, он испытывает понятную неловкость, когда приходится ударить собеседника, но завершается микроэпизод недвусмысленной репликой: «Я всегда мечтал, чтобы на мой кулак напоролись десять миллионов долларов, но не предполагал, что выйдет таким образом» (II, 481). В оригинале речь идет о желании «ударить десять миллионов долларов»; Бриммер оказывается активной стороной, что не вполне отчетливо выражено в переводе. В целом образ Бриммера, хоть и едва намеченный, дается без особой сердечной теплоты, но с ощутимым уважением.
Образ Кэтлин Мур очерчен несколько полнее, чем образ Бриммера, но также раскрыт далеко не до конца. Выше упоминалось справедливое наблюдение А. Н. Горбунова, подчеркнувшего отличие Кэтлин от прежних героинь Фицджеральда-романиста. Судьба молодой женщины была причудливой. В свое время представленная к английскому двору, Кэтлин тем не менее рано узнала настоящую бедность. Находясь в отчаянном положении, она вступила в связь с одним из «безработных» королей. Если не вдаваться в содержание, можно, пожалуй, сказать, что канва ее жизни напоминает киносказку. В романе о Голливуде такая ассоциация едва ли вызывается случайно.
Почти фантастические «повороты» в судьбе Кэтлин, как и ее поразительное сходство с кинозвездой Минной Дэвис, понадобились писателю не только для развития сюжета, но и для содержательного противопоставления реальной жизни облегченной киносхеме. Вся история Кэтлин дается в подчеркнуто реалистических красках. Кэтлин горда и самостоятельна, ее ничто не связывает с голливудским миром. В этом глубинный смысл «живой» и естественной беседы ее со Старом: « — Наверно, вам проходу нет от девушек, все ведь рвутся в киноартистки... Вы не снимать ли меня хотите?
— Нет.
— Вот и отлично. Я не актриса. Как-то в Лондоне, в отеле «Карлтон» ко мне подошел человек и предложил попробоваться, но я подумала — и не пошла» (II, 416). Действительно, только нелепое стечение обстоятельств приводит к тому, что Кэтлин выходит не за Стара, а за другого, но, как было показано, нерешительность Стара имеет свое внутреннее обоснование, и в том, что героям не удается соединиться в семью, есть своя насыщенная смыслом логика. Как часто бывает в романах Фицджеральда, под маской случайного здесь выступает закономерное.
Добавим к сказанному, что писатель ни в коей мере не приукрашивает Кэтлин. В истории героев нашел отражение личный опыт автора. Совершенно очевидно, что прототипом Кэтлин была Шейла Грэхем, с которой Фицджеральд прожил последний период своей жизни, но мы уже касались вопроса о том, как писатель трансформировал собственный жизненный опыт в художественном произведении.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о повествовательной перспективе в «Магнате». Как следует из приводившихся отзывов, критики единодушно считают выбор Сесилии Брейди в качестве рассказчика не вполне удачным. Не будем полностью оспаривать это мнение, хотя окончательные выводы представляются слишком поспешными, так как судить приходится, основываясь на незавершенном произведении. Ограничимся некоторыми замечаниями.
В написанных главах неоднократно встречаются важные лирические отступления. Вот как, например, в первой же главе Сесилия говорит о герое: «В юности он взлетел на крепких крыльях ввысь — и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец — яростным, усилием крыльев он продержался там долго — немногим удается это, — и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю» (II, 366). Возникает вопрос, может ли Сесилия, не «выходя из образа», так говорить. Если учесть, что собственно действие от рассказа о нем отделяет пятилетний период, за который взгляды девушки претерпели существенные изменения (это постоянно подчеркивается в романе), такая характеристика в ее устах вовсе не будет казаться невероятной или даже неправдоподобной.
С образом Сесилии труднее согласовать следующее отступление, прерывающее рассказ о нерешительности героя в момент объяснения с Кэтлин: «Это твой шанс. Не упусти его, Стар. Это — твоя Женщина. Она спасет тебя, растормошит, вернет к жизни. Она потребует забот, и у тебя найдутся, возродятся силы. Но не медли, скажи ей, не упускай ее из рук. Ни она, ни ты не знаете,— но далекий, на том краю ночи, Американец (жених Кэтлин, которого она ждала в Голливуде только через неделю и была готова оставить ради Стара. — Ю. Л.) изменил свои планы. И в эту минуту поезд мчит его через Альбукерке без опоздания и задержки. Машинист ведет состав точно по графику. Утром Американец будет здесь» (II, 468). В данном случае, очевидно, роль повествователя более принадлежит «всеведущему» автору. Разумеется, и Сесилия могла восстановить ход событий, но весь характер приведенного пассажа заставляет усомниться в его «принадлежности» ей, и пятилетняя дистанция вряд ли спасает положение. Тем не менее и на этот раз окончательное суждение можно было бы вынести, лишь имея весь текст. Кроме того, нужно отметить, что это отступление единственный в написанных главах случай, когда повествование Сесилии заметно не согласуется с ее образом.
Важно также, что Фицджеральд учел опыт книги «Ночь нежна», где слишком долго преобладает точка зрения Розмэри Хойт. «Доверив» повествование Сесилии Брейди, писатель исключил всякую возможность подобной ошибки. Все действие романа так или иначе затрагивает Сесилию, она все время либо непосредственно присутствует при происходящем, принимая участие в описываемых событиях, либо находится рядом и не прерывает отношений с людьми, восполняющими ее собственные наблюдения.
С этой особенностью положения Сесилии связана еще одна характерная черта повествования в «Магнате», знакомая нам по другим зрелым романам писателя. В своем рассказе Сесилия все время «опирается» на движение времени, поскольку оно имеет отношение к ней самой. Таким образом, реальность описываемых событий подкрепляется несколько усложненной, сравнительно с тем как Фицджеральд делал это прежде, картиной работы анализирующего сознания Сесилии. Отражение действия в мозгу повествователя составляет определенный аналог собственно действию и вносит в него соответствующий, нередко нравственный корректив. Оценивая повествовательную перспективу в книге, это необходимо учитывать.
Все же критические замечания по поводу повествовательной перспективы в «Магнате» имеют определенное обоснование, о чем свидетельствует сопоставление с «Великим Гэтсби». В первом зрелом романе Фицджеральда, как было видно, рассказчик является одним из главных героев. Художественное открытие писателя в том и состоит, что, по сравнению с Генри Джеймсом, Джозефом Конрадом и другими предшественниками, он качественно изменил, принципиально усилил роль повествователя. История Гэтсби радикально повлияла на личность Ника в целом. Разрыв с Джордан Бейкер явился следствием нового мировосприятия Ника, был обусловлен социально, идеологически. Результатом всего этого стало изумительное единство, целостность образа рассказчика, в котором личностный и идеологический аспекты органически слились воедино.
Иначе обстоит дело с образом Сесилии Брейди. Основой ее отношений со Старом является то, что она в него влюблена со всем пылом неопытной девушки, пораженной необычностью и масштабностью его личности. При этом весьма существенно, что в период действия романа отношение Сесилии к Голливуду фактически оказывается некритическим. Не случайно в самом начале своего рассказа она сообщает: «Прозу Голливуда я принимала с безропотностью привидения, назначенного обитать в таком-то доме. Я знала, что кинобизнесом надлежит возмущаться, но возмущение упорно не желало приходить» (II, 349). Правда, можно и, вероятно, даже нужно предположить, что взгляды Сесилии, по замыслу автора, должны измениться, но в отличие от Ника Сесилия в большей или меньшей мере судит как бы со стороны, и ее нравственные заключения не имеют и, скорей всего, не могут иметь ни такого значения, ни, конечно, такого важного социально-исторического фундамента, как в случае с Ником. Можно бы, пожалуй, сказать, что существенное расширение отображаемой в «Магнате» социальной сферы требовало иной повествовательной перспективы, но вновь приходится напомнить: мы имеем дело только с первым вариантом неоконченного романа.
Этого нельзя забывать и при суждении о композиции произведения. Тем не менее написанные главы позволяют выделить немаловажные композиционные особенности, отчасти сходные с уже знакомыми нам по книге «Великий Гэтсби». Исключительная «плотность» построения во многом обеспечивает высокое художественное качество отрывка, позволяет с самого начала повествования наметить социальный сюжет и его движение, причем в рассказ Сесилии сразу же естественно вводится существенная тематика.
Приведем один пример. Тема противопоставления богатства и бедности возникает в полушутливом и, на первый взгляд, совершенно «невинном» разговоре Сесилии и стюардессы самолета. Речь заходит о страхе, вызываемом революционной ситуацией в стране. Можно было бы думать, что соответствующие настроения остались в прошлом, относятся лишь к самым трудным, кризисным годам, но раскрывающаяся перед читателем напряженность голливудской жизни все время напоминает о сложности социально-политической обстановки. Когда же (в пятой главе) Сесилия по совершенно конкретному поводу без всяких обиняков говорит: «...я знала, что с 1933 г. богатым бывает весело только в своем замкнутом кругу» (II, 424), мысль читателя возвращается к эпизоду беседы со стюардессой, и окончательно становится ясно, что разговор девушек содержал вполне серьезные мотивы. Одновременно упомянутый эпизод из пятой главы подготовляет сцену встречи и столкновения Стара с Бриммером, завершающую написанную часть романа.
Содержательная насыщенность первой главы очень велика. Здесь, как говорилось, если не полностью, то в большой мере определяется тематика произведения; Сесилия рассказывает о себе, Старе, Голливуде, некоторых важных драматических событиях. Здесь же намечается конфликт Стара с Брейди, а кроме того, закладывается фундамент собственно художественной модели, характерной для романа в целом.
Необходимость представить читателю в первую очередь рассказчика отчасти обусловливает появление главной героини только во второй главе. Таким образом, первые две главы в совокупности дают всю необходимую экспозицию. При этом в самой композиции отражается определяющее начало всей идейно-художественной структуры. Социальное в сюжете определяет личное. Намеченное соотношение неизменно прослеживается на всем протяжении дальнейшего повествования.
Выше говорилось о полифункциональности третьей и четвертой глав, в которых, наряду с непосредственным движением действия, показан типичный рабочий день Стара. Общее сливается здесь с частным. Развитие определенного отрезка сюжета как бы совмещается с показом исключительно важного фона, который, можно сказать, утрачивает «фоновое» качество, составляя основу всего последующего повествования. Если в первых двух главах сюжетная линия Стара всесторонне определяется как основная, то в двух последующих она находит полное раскрытие. Фундамент, заложенный в третьей и четвертой главах, обеспечивает расширение и углубление показа Голливуда в главе пятой. Здесь же излагается история Кэтлин, во многом определяющая отношения героини и героя. Тем самым одновременно завершается подготовка сцены встречи Стара с Бриммером. Как видно, композиция отрывка отличается строгой функциональностью, имеет собственное смысловое значение. Содержательная и формальная стороны целого взаимопроникают во всех деталях, оказываются полностью слитыми.
Многие известные по роману «Великий Гэтсби» художественные средства отображения действительности заметны и в книге «Последний магнат», но было бы неверно говорить о механическом перенесении приема из одного произведения в другое. Одно и то же художественное средство используется писателем по-разному.
Основы эстетики Фицджеральда остаются прежними. Заметно воплощение конрадовской установки на то, чтобы прежде всего заставить читателя «видеть», но в «Последнем магнате» применение этого принципа существенно дополняется и усложняется. Раскрывая процесс производства фильма, писатель в самой художественной ткани произведения создает своего рода непростой аналог кинокартине, сам как бы показывает, и лишь постепенно открывается, что мы имеем дело не с кинороманом, а с романом в собственном смысле слова. Действительно, все написанные главы настолько насыщены действием, что может показаться, будто они целиком укладываются в сменяющиеся кадры и планы. Преобладание действия в повествовании наглядно отражается в его архитектонике, в почти полном отсутствии или необычной для писателя краткости не поддающихся «показу» размышлений или рассуждений. С производством фильмов по-своему связывается романтическая линия в характере Стара. На этот раз Фицджеральд еще более последовательно, чем раньше, следует принципу «действие есть характер». Каждое общее утверждение, принадлежит ли оно Сесилии или любому другому персонажу, раньше или позже неизменно «показывается» в «живой» сцене, подтверждается непосредственно в действии. Пейзаж, место действия предстают в разных ракурсах. В написанном отрывке нетрудно выделить множество мест, которые на экране можно было бы удачно передать с помощью монтажа, наезда камеры, наплывов и других кинематографических приемов. Даже поразительное сходство Кэтлин с Минной Дэвис заставляет задуматься именно о технике кино.
Найденная Фицджеральдом художественная форма, как видно, необыкновенно полно и точно соответствует содержанию романа, но отнюдь не является просто счастливой находкой. Замысел писателя сложен. Создавая свое «кино», автор последовательно, не упуская ни одной возможности, развенчивает «фабрику грез», показывает антиромантическую сущность, таящуюся под романтической оболочкой [34]. Киностандарт в «Магнате» неизбежно разоблачается как бы изнутри, показ «кино» сопровождается показом своего рода «антикино», а в результате значительно заостряется критика голливудской романтики, непривлекательная реальность выступает особенно выпукло. Другими словами, писатель одновременно показывает два «фильма». Один из них — подлинное произведение искусства, в нем прямо рисуется многообразная и сложная жизненная картина. Другой — как бы внутри первого — типичная голливудская поделка, не имеющая ничего общего с реальностью, и здесь уже каждая попытка представить фальшивую схему как отражение жизни находит внутреннее опровержение.
Поясним сказанное примерами. С первых строк повествования мы узнаем, что Сесилия выросла в мире кино и в период собственно действия романа имела отношение к Голливуду. Штампы и схемы кино прочно утвердились в се сознании, и это незамедлительно отражается в повествовании. Стюардесса рассказывает Сесилии о кинозвезде, собиравшейся в случае революции спрятаться вместе с матерью в Йеллоустонском заповеднике. Вот какая сцена тотчас возникает в сознаний Сесилии: «Вообразилась прелестная картинка: бурые медведи — добряки и консерваторы — снабжают медом актрису с мамой, а ласковые оленята приносят им от ланей молоко и, напоив, пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье» (II, 351). Эта картина как бы целиком заимствована из мультфильма и по существу нереальна. Здесь линия критики Голливуда «изнутри» только начинается.
Пять лет спустя после событий Сесилия прямо говорит: «Очень, очень вероятно, что сформировалась я именно на фильмах из числа созданных Старом» (II, 364). Она понимает, что ей нечего было предложить ему. Это спустя пять лет. А во время собственно действия? Сесилия признается: «...тогда мне думалось иначе: может помочь отец, может помочь стюардесса. Вот войдет она в кабину экипажа, скажет Стару: «Какую любовь прочла я в глазах этой девушки».
Может пилот помочь: «Пора прозреть, приятель! Жми немедленно к ней!» (II, 365). Те же киноштампы находим в дальнейшей разработке темы, в эпизоде, где Сесилия поверяет свои мечты циничному сценаристу Уайли. Приведем часть этого замечательного диалога:
«— Он взглянет на меня и подумает: «А ведь я смотрел на нее раньше, не видя...»
— Эта строчка прошлогодняя, мы ее теперь вычеркиваем,— сказал Уайли.
— Потом назовет меня «Сеси», как назвал в вечер землетрясения. Скажет, что и не заметил, как я расцвела.
— А вам останется только стоять и таять.
— А я буду стоять и цвести. Он поцелует меня, как целуют ребенка, и...
— Но все это уже есть у меня в разработке,— пожаловался Уайли.— И завтра я кладу ее Стару на стол.
— ...и сядет, спрячет лицо в ладони, проговорит, что никогда не думал обо мне как о женщине.
— А-а, успел, значит, ребеночек прижаться во время поцелуя!
— Я же сказала, что стою и цвету. Сколько раз надо повторять: цве-ту.
— Ваш сценарий начинает отдавать дерюгой,— сказал Уайли. — Не пора ли закруглиться? Мне предстоит сейчас работа.
— Потом скажет, что это было нам с ним предназначено.
— Что значит дочь кинопромышленника! Вся в папашу. Халтура в крови. Брр!» (II, 420—421).
В этих примерах внутреннее содержание откровенно выносится «на поверхность». В диалоге Сесилии и Уайли есть, конечно, и элемент игры, но ведь мы видели, что наедине с собой девушка мыслит такими же штампами. Необходимостью показать это отчасти и объясняется появление в повествовании избыточного, на первый взгляд, эпизода с мечтами о помощи стюардессы или пилота. Помимо прямого значения, приведенные эпизоды имеют и другое. Несбыточность мечтаний Сесилии без пояснений объективно определяется параллелью, образуемой ее «кинозрительским» восприятием жизни и показанной во всем объеме и сложности высокопрофессиональной работой Стара. Из великого множества мы выбрали самые очевидные примеры. В совокупности они образуют линию, последовательно проводимую автором. При этом затрагивается отнюдь не только сфера личных отношений. Приведем еще одну характерную иллюстрацию.
Знатный европейский посетитель принц Агге осматривает киностудию. Агге интересует все американское, и в Голливуде, ему кажется, он нашел квинтэссенцию страны. Проходя по студии, он видит обедающего актера в гриме и узнает в нем Линкольна: «...теперь принц Агге, добравшийся до сокровенной Америки, глядел во все глаза, как турист в музее. «Так вот он, Линкольн». Стар отошел уже далеко, оглянулся на Агге, а тот все медлил и глядел. «Так вот она, американская суть». Неожиданно Линкольн взял с тарелки треугольный кусище торта, сунул себе в рот, и, слегка оторопев, принц Агге поспешил за Старом» (II, 398).
Выше упоминалось, что критика отмечает значение проходящих через все действие лейтмотивов. Некоторые из них довольно просты и мало отличаются от частных лейтмотивов в «Гэтсби». В самолете (первая глава) Сесилия, прежде чем сунуть в пепельницу использованную жевательную резинку, заворачивает ее в страничку журнала: «Сразу отличишь воспитанных людей,—одобрила стюардесса.— Всегда прежде завернут в бумажку» (II, 351). Можно было бы думать, что этот микроэпизод нужен только для воплощения той же конрадовской установки — заставить читателя «видеть». Действительно, сценка очень жизненна, но достижение достоверности — лишь одна из целей, преследуемых писателем. В четвертой главе есть эпизод, в котором рассказывается, как Стар просматривает отснятое за день. Сцена заканчивается выразительными «кадрами»: «Зажгли свет. Стар вложил изжеванную резинку в обертку, сунул в пепельницу. Повернулся вопросительно к секретарше» (II, 407).
Связь обоих эпизодов сложнее, чем может показаться. Оба они служат целям «показа», но собственный смысл аналогичных действий далеко не одинаков. Сесилия наглядно проявляет привычку к аккуратности, маленькую черточку воспитания. Она и не помнила, что во рту у нее резинка, пока слова стюардессы не заставили ее подумать об этом. Стару напоминания не нужны. Смысл его действия шире. Изжеванная резинка — немое доказательство того напряжения, которое характеризует всю его работу, а незначительное действие, как бы вовсе с этой работой не связанное, само по себе свидетельствует об окончании одного из ее этапов. Если бы мы не имели ничего, кроме приведенных маленьких эпизодов, на этом пришлось бы остановиться, но в общем контексте значение обеих сценок увеличивается. Сесилию и Стара может объединять общая малозначительная привычка, но и в самых простых действиях этих персонажей видна разделяющая их дистанция. Даже такой элементарный лейтмотив, как видно, имеет в «Магнате» непростые обертоны, в частности, может, помимо прочего, служить средством выражения психологического состояния.
Много сложнее некоторые другие лейтмотивы, нередко окрашенные насыщенной смыслом образностью. Выше приводилось лирическое отступление, давшее критику У. Трою основание утверждать, что в романе имплицируется уподобление Стара Икару. С этим связано также отмечавшееся критикой значение полетов Стара. Заметим попутно, что описание полета (глава первая) полифункционально, но нас в данном случае интересует не ракурс показа, а, так сказать, лейтмотивная полифункциональность эпизода. Вводя его в самом начале повествования, писатель подчеркивает его важность, полностью раскрывающуюся в развитии действия.
В самом деле, в первой главе (возвращение героя в Голливуд) рассказывается о вынужденной (из-за погодных условий) посадке в Нашвилле. Часы ожидания Сесилия, Шварц и Уайли посвящают посещению усадьбы-музея Эндрю Джексона. Именно там Шварц совершает самоубийство. Показательно, что Стар предпочел поехать не на экскурсию, а в гостиницу. Стар, как упоминалось, не получил образования. Он сам признает, что ему часто приходится обращаться за разъяснениями к «всезнающим» писателям-сценаристам, но неоднократно указывает на их несамостоятельность в решении сложных вопросов кинопроизводства. Даже Бриммер «позволил себе согласиться с тем, что они народ «шаткий» (II, 474). Как всякое общее положение, тезис о писательской эрудиции и ограниченности находит раскрытие в «живых» сценах. Так, Уайли, исполняющий во время экскурсии роль гида, вступает в многозначительный диалог со Шварцем: «Сейчас приступаем к осмотру пенатов, где обитал Эндрю Джексон — десятый президент Америки, Старая Орешина, Новоорлеанский победитель, враг Национального байка, изобретатель Системы Дележа Политической Добычи. «Вот вам сценарист,— обратился Шварц ко мне, как обвинитель к присяжным.— Знает псе, и в то же время ничего не знает» (II, 358).
Уайли действительно отмечает почти все существенные моменты деятельности Джексона, допуская, впрочем, ошибку: Джексон был седьмым, а не десятым президентом, но более интересно то, что реплика Шварца явно «перекликается» с аналогичными утверждениями Стара. Намеченная линия получает почти немедленное развитие в словах Сесилии: «Сомневаюсь, знал ли Шварц, бродя у колонн, кто такой был Эндрю Джексон. Но, возможно, ему думалось, что раз уж дом сохранен как реликвия, то, значит, Эндрю Джексон был человек большого сердца, сострадательный и понимающий» (II, 359). Джексон не был таким человеком, и Стар, подобно Шварцу, едва ли знал что-нибудь о седьмом президенте США. Из-за раннего часа посетителей в усадьбу не пустили. По замыслу автора Стару предстоит посетить Вашингтон, который он хочет осмотреть, но заболевает, в результате чего выносит из осмотра столь же туманное впечатление, как Шварц из посещения усадьбы. Наконец, Шварц совершает самоубийство во время вынужденной посадки самолета, а Стар погибает в авиационной катастрофе.
Содержание этого лейтмотива многообразно. Писатель без пояснений показывает разницу между Старом, которому удалось «взлететь», и неудачливым дельцом. Кроме того, судьба Шварца как бы служит проекцией исторически обусловленной судьбы Стара. В этом отношении связь темы современного Вашингтона с темой Джексона, президента 1829—1837 г., особенно значительна, ибо включает элемент «связи времен». Особая роль этого лейтмотива в произведении видна из того, что он неоднократно звучит в написанных главах. Перелеты из конца в конец страны не только образуют своего рода параллель поездкам Стара с Кэтлин по Голливуду (герой и героиня несколько раз приезжают по одной и той же дороге), но вовлекают огромное пространство страны. Так завершается построение хронотопа, и в самом лейтмотиве отражается прием показа целого через часть. Кроме того, тема полетов непосредственно связана с образным уподоблением Стара Икару, и этот образ не просто способствует раскрытию личности героя, но и дает ироническую подсветку попытке воплотить «американскую мечту» в прозаической современности США. Вероятно, есть все основания предположить, что в законченном романе лейтмотивы образовали бы целую систему, исключительно важную для художественного выявления его идейного содержания.
«Последний магнат» существенно отличается от всех предшествующих романов писателя, хотя, особенно по отношению к «Великому Гэтсби», сохраняются принципиальные черты преемственности. Отличия очень заметны и в языке отрывка. А. Н. Горбунов отмечает, что максимальной концентрации действия в книге соответствует максимальная концентрация языка [35]. Действительно, синтаксис и лексика стали проще и строже. Преобладание действия отражают в предложении многочисленные глагольные формы, которые, к сожалению, не всегда можно сохранить в переводе. Действие, установка на «показ» и раскрытие глубинной сущности обусловливают строжайший отбор лексики, высокую функциональность слова и тропов.
Рассмотрим один «нейтральный» пример. Вот абзац, описывающий наводнение на студии: «Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная голова бога Шивы — и несла у себя на темени двух женщин. Статую смыло с «Бирманской» площадки, она вместе с прочими обломками плыла, прилежно следуя изгибам русла, покачиваясь, тычась—преодолевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись ногами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картиной наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса» (II, 373).
Прежде всего видна динамичность картины, непосредственно отражающаяся в синтаксисе каждого предложения. Первое из них содержит самые необходимые общие сведения, последние два полностью раскрывают намеченное в первом. Такое построение совершенно соответствует особенностям зрительного восприятия реальной картины. Глаголы и глагольные формы точно передают характер движения головы, сообщая всей сцене зримую достоверность. Фицджеральд не довольствуется общим положением о том, что на киностудии можно увидеть всякие чудеса, и конкретизирует ситуацию, кратко сообщая, откуда именно появилась голова бога. Все прилагательные пассажа также строго функциональны. Так, из всех возможных определений для характеристики головы выбирается слово «огромная», единственное, без которого нельзя обойтись. Размеры головы позволяют двум женщинам найти на ней приют, они же дают возможность не конкретизировать «прочие обломки», незначительные рядом с плывущей громадой. Картина, таким образом, ничего не теряя в достоверности, обретает центр притяжения. И далее размеры головы даются в «зримых» деталях. Потому-то и сообщается, что женщины не просто сидят на темени, а упираются ногами в завиток волос. Сам этот завиток отчетливо выделяется на «голом лбу». О лице Шивы ни слова не сказано, потому что все внимание приковано к женщинам. Сравнение подчеркивает необычность ситуации и отсутствие серьезной опасности. Во всем пассаже нет буквально ни одного слова, которым можно было бы пожертвовать.
Ни в одном прежнем романе Фицджеральда диалог (или полилог) не занимал такого большого места. Прямая речь персонажей неизменно полностью согласуется с их характерами, а также определяется ситуативно. Когда они говорят в обычно несвойственной им манере, то не «выходят из образа», а лишь глубже раскрываются, и сама необычность их речи в таких случаях находит реальное психологическое обоснование. Ярким примером в этом отношении может служить речь Пита Завраса, когда он благодарит Стара за помощь. В целом можно, по-видимому, сказать, что языковая ткань произведения адекватна всей его структуре и отражает дальнейшее приближение избранной писателем художественной модели к действительности.
Отразившееся в «Последнем магнате» развитие стиля писателя вызывает необходимость рассмотреть вопрос о сходстве и отличиях художественной манеры Фицджеральда и Хемингуэя. «Фицджеральдиана» столь полна указаний на такое сходство (главным образом, в построении диалога), что едва ли есть надобность в ссылках. Не отрицал его и сам Фицджеральд. Проблема, тем не менее, состоит не в констатации очевидного. Предстоит показать, что сходные стилевые черты в творчестве обоих писателей не были следствием влияния Хемингуэя, стиль которого всегда восхищал Фицджеральда, а результатом действия более общих причин, обусловивших некоторые характерные черты литературы и искусства XX в.
Когда говорят, что диалоги «Магната» напоминают диалоги Хемингуэя, прежде всего — и совершенно справедливо — имеют в виду синтез, являющийся одной из доминантных черт хемингуэевского стиля [36]. Во избежание путаницы, связанной с употреблением термина «синтез», поясним, в каком значении он будет здесь употребляться. Стиль писателя можно охарактеризовать как синтетичный, если он складывается из более или менее многообразных сочетаний стилей, утвердившихся в литературе. Так осуществляется синтез художественных средств, известный еще в прозе мастеров XIX в., например, у Мопассана. Здесь же под синтезом подразумевается специфическая организация художественного повествования, при которой психология персонажа и причины тех или иных действий не анализируются непосредственно в тексте, но остаются совершенно понятными читателю. Анализ, таким образом, существует скрыто, ничего не теряя в достоверности и убедительности. Синтез в этом понимании выступает как противоположность анализу, то есть является основной характеристикой, принципиально отличающей многие выдающиеся образцы современной литературы от традиционной аналитической прозы.
Мы далеки от намерения утверждать, что синтез в искусстве наших дней полностью вытеснил традиционный анализ или представляет собой главное, если не единственное, средство художественного отображения действительности. Литература и искусство вообще обладают неисчерпаемым разнообразием таких средств. Но, как явствует из многих теоретических исследований, не говоря уже о практике ряда крупнейших современных художников, синтез получил существенное воплощение именно в искусстве XX в., и было бы неправильно недооценивать важную тенденцию развития стиля, значительно обогатившую современное искусство, открывшую новые возможности художественного постижения мира [37]. Сделаем сразу же еще одну оговорку. Нам придется коснуться не только литературы, но и других видов искусства. При этом необходимо привлечь разнообразный материал. Проблемы взаимоотношений реализма и модернизма и критика модернизма не входит в сферу данной работы. Эти вопросы, в частности анализ модернизма в современной литературе США, уже были подробно разработаны и освещены во многих трудах советских исследователей [38]. В данной работе мы не можем рассматривать историю искусства как таковую, наметим лишь определенную стилевую тенденцию.
Аналитическая проза достигла высшего этапа развития в созданном Л. Н. Толстым романс-эпопее [39]. Грандиозный замысел автора «Войны и мира» имеет мало аналогий во всей истории мировой литературы. Показывая отдельных людей и широкие народные массы, вовлеченные в события гигантского масштаба и исторического значения, Л. Н. Толстой хотел выяснить коренные причины, лежащие в основе этих событий, определяющие исторические судьбы народов и государств. Такой замысел, естественно, предполагает определенные выводы (здесь нет речи об их правильности или ошибочности), тот синтез, который в эпилоговых главах был сделан на основе гигантского художественного анализа. Этот синтез отсутствует в собственно ткани произведения, но, вероятно, есть определенная закономерность в том, что, достигнув своей вершины, аналитическая эпическая проза «ощутила» потребность в элементе синтеза.
Искусство XX в. открыло и широко использовало таящиеся в синтезе возможности. При этом оно вовсе не стремилось просто избавиться от анализа. Напротив, анализ неизменно оказывается начальным этапом, но художники разрабатывали те средства, которые позволили бы дать его, условно говоря, «не в эпилоге», а в самой художественной ткани. Так в литературе все большее значение обретает подтекст. В нем и содержится проделанный писателем анализ, причем отнюдь не пропадающий для читателя. Текст же — в синтезе — дает результаты анализа, чем обеспечиваются интереснейшие художественные эффекты. Такая тенденция, не исключая, как упоминалось, и других, находит отражение не только в литературе.
В 1932 г. Пабло Пикассо создал известное полотно «Девушка перед зеркалом». Нас интересует здесь только способ изображения лица девушки. Художник показывает его одновременно в профиль и фас, подчеркивая различие в двух его проекциях собственно живописными средствами, цветовым решением. Интересно использована возможность сделать линию рта единой и другие средства показа целостности лица, но важнее в данном случае другое. Пикассо попытался «проанализировать» лицо и представить его в синтезе. Известно, что лишь оба изображения (в фас и в профиль) вместе дают полное представление о чертах лица в целом. На картине Пикассо видно, что у девушки строгий классический профиль. Линия лба незаметно переходит в прямую линию носа, подбородок четко очерчен, но изображение в фас вовсе не имеет классических очертаний, овал лица приближается к окружности. Таким образом, здесь синтез отображает разницу двух основных проекций. Пикассо, Пауль Клее и некоторые другие крупнейшие мастера живописи немало поработали над выяснением возможностей подобного синтеза, причем (по крайней мере, Пикассо) далеко не ограничивались только лицом модели.
Ощутимый толчок поискам искусства в этом направлении дало кино, использующее смену планов и, что для нас важнее, монтаж. Принципиальные открытия принадлежат здесь, как известно, Д. У. Гриффиту (с 1909 г.) и С. Эйзенштейну, показавшему в фильме «Броненосец Потемкин», что сложное содержание можно передать, монтируя определенным образом конкретные сцены. В наши дни монтаж как средство синтеза, в котором явно «просматривается» анализ, имеет место в каждом фильме, причем неразрывно связывается с движением действия, динамикой. Этот момент, нашедший своеобразное отражение и в живописи, особенно важен для литературы, в которой последовательное сопоставление двух (и больше) действий может, как выяснилось, отразить их причины и психологическое состояние, обусловившее их характер.
Синтез, как видно, во многих случаях непосредственно связан с движением, динамикой, которые, в свою очередь, во многом характеризуют все современное искусство. Стремление передать движение в скульптуре и живописи издавна отмечает многие прекраснейшие произведения. При этом сам характер движения постоянно усложняется. Знаменитая Ника Самофракийская вся в движении. Динамичность статуи подчеркивается ее пространственным решением. Распростертые крылья способствуют созданию глубины, объемное сильное тело устремлено вперед, и складки хитона, обрисовывающие под порывом ветра всю фигуру, делают движение буквально видимым. Движение Ники с его эмоциональной насыщенностью и выразительностью, конечно, свидетельствует о развитии и усложнении античной скульптурной пластики, но в другом отношении является сравнительно простым. Оно целиком выражено во внешних формах, все как бы снаружи, передается через постановку тела, положение крыльев, складки хитона.
Гениальная скульптура Микеланджело воплощает идеологию и дух Возрождения. Когда художник стремился передать движение, он показывал его в позе фигуры, напряжении мускулатуры, самая мощь которой выражает большую гуманистическую идею. Когда, как в статуе Давида, момент движения еще не наступил, особое значение приобретает выражение лица. У Давида оно грозно, юноша с гневом смотрит на врага. Вены на руках вздулись: Давид уверенно сжимает пращу и камень. Не будем касаться титанизма, присущего фигурам Микеланджело. Отметим лишь, что скульптор передает движение «внешними» средствами, и сама напряженность этого движения, вкладываемое в него усилие отражаются прежде всего в позе фигуры и «игре» определенных групп мускулов.
Не останавливаясь на разнообразии скульптуры классицизма, как правило, откровенно условной, возьмем в качестве примера творчество Кановы. Для него характерна передача не столько даже самого движения, сколько его возможности, отраженная в гармоническом расположении фигур по отношению друг к другу, мягком изгибе тела, наклоне головы и так далее. Когда же скульптор задается целью показать движение, динамику, то, как в известной композиции «Геракл и Лихас», делает это подчеркнуто «внешними» средствами, впадая даже в некоторый натурализм.
Время отображения в скульптуре «внутреннего» движения, то есть появление элементов синтеза как средства изображения, казалось бы, наименее для нее подходящего, пришло позже. Здесь выделяются творческие поиски Родена, в пластике которого раскрывается прежде всего эмоционально-психологическое состояние модели. Показательно, что в некоторых его скульптурных группах лиц почти не видно, но синтез делает это незаметным. То же можно сказать и о движении. Руки в знаменитой одноименной серии отделены от человека, но характер движения каждой кисти выступает со всей определенностью. Открытия Родена в этом плане трудно переоценить. Гениальный Бранкузи внес большой вклад в развитие рассматриваемой тенденции.
Необходимо коснуться еще одного момента, имеющего отношение к художественному синтезу. Речь о принципиальном изменении функции фона, которое особенно отчетливо проступает в жанре портретной живописи. Фон в классическом портрете XIX в. мог иметь, так сказать, иллюстративное значение, указывать на общественное положение или род занятий модели, мог представлять «нейтральный» пейзаж, но основной его функцией было оттенять лицо, на котором и сосредоточивалось внимание художника и зрителя. Этим объясняется однотонность, а нередко и отсутствие предметного фона как такового. Обрамляющая лицо поверхность полотна зачастую просто покрывалась одноцветной краской. В таких портретах фон действительно позволял выделить лицо, но существенного взаимодействия фона и модели почти не было.
Известные работы М. Сарьяна дают представление об изменении роли фона в искусстве XX в. Портреты Иосифа Манташева (1915) и особенно Нины Комурджян (1917) наглядно иллюстрируют упомянутые изменения. Фон у Сарьяна как бы утрачивает свое собственное качество. Он не просто оттеняет лицо, но становится неотъемлемой частью портретной характеристики модели. Исчезает его однотонность. На первый взгляд, может показаться, что краски фона чересчур «активны», что они отвлекают внимание от лица и фигуры. На самом деле это не так. Краски лица и фона частично совпадают, чем обеспечивается возможность незаметных переходов. Фон не «убивает» лицо, а вступает во взаимодействие с ним, органически включается в портрет, связывается с лицом содержательно как немаловажное средство раскрытия характера модели. Произведение в целом обретает удивительное единство, отражающееся во всех живописных средствах. Такой синтез может не способствовать точной передаче деталей внешнего сходства, но зато помогает раскрыть внутреннюю, если можно так сказать, выразительность лица.
Сейчас едва ли можно отрицать, что синтез, элементы которого появляются уже в произведениях выдающихся мастеров XIX в., например у Стендаля, прочно утвердился в современном искусстве, явился закономерным результатом развития средств художественного познания и отображения мира. В литературе XX в., особенно в романе, ведущем ее жанре, многие открытия, связанные с разработкой наметившихся таким образом новых возможностей, бесспорно, принадлежит Хемингуэю.
Расцвет лирического романа в 20-х годах в первую очередь, как упоминалось, обусловлен нравственным потрясением, причиненным первой мировой войной. Писатели «потерянного поколения», пережившие крушение понятий и представлений, казавшихся прежде незыблемыми, испытывали понятное недоверие к абстракциям. Описываемый ими фронтовой и предфронтовой опыт не нуждался в пояснениях, как бы сам по себе делал понятной психологию поведения и жизненную позицию индивидуалиста поневоле, ставшего героем множества произведений. Синтез великолепно соответствовал потребностям лирической прозы, ибо позволял обойтись без «самокопания», неловкого анализирования собственной психологии, прямого выражения мысли и чувства. В рамках критического реализма раскрытие истории «потерянного поколения» наиболее последовательно и смело сделано в романах Хемингуэя.
С переходом анализа в подтекст связаны и особенности языка писателя, применения им тропов. Для аналитической прозы характерны сложные предложения с многими придаточными, с причастными и деепричастными оборотами, отражающие связь времен и явлений. Та же связь обусловливает широкое использование сложных многоплановых метафор, сравнений, эпитетов, т.е. стремление раскрыть сущность данного объекта через посредство других, подчас очень от него далеких. У Хемингуэя все иначе. Синтаксис предложения заметно упрощается, значение собственно последовательности действий подчеркивается постоянным использованием полисиндетона «и», функции которого, кстати сказать, этим отнюдь не исчерпываются, эпитеты уступают место строго функциональным определениям, число метафор и сравнений резко сокращается, раскрытие сущности предмета (явления) дается этим писателем как бы изнутри.
Если синтез — первая доминанта хемингуэевского стиля, то «показ», то есть представление объекта в чувственном (не только зрительном) восприятии — вторая. Дополняя синтез, она отражает присущую его творчеству тенденцию сочетать субъективное и объективное начала. «Показ» у Хемингуэя имеет собственные черты, не позволяющие трактовать его «по Конраду». Стремясь заставить читателя прежде всего «видеть», Конрад вовсе не чуждается аналитических средств. У Хемингуэя же они отсутствуют. Это различие имеет, конечно, принципиальное значение. Хемингуэй настолько последователен в использовании синтеза и «показа», что введение аналитического элемента некоторое время приводило у него к стилистическому диссонансу, заметному, например, в пьесе «Пятая колонна» и романе «Иметь и не иметь». Не случайно эти произведения оказываются в творчестве писателя переходными.
Заметим, между прочим, что в рамках критического реализма «потерянность», жизненная позиция индивидуалиста поневоле, опиравшегося почти исключительно на силу собственного характера, вовсе не исключала своеобразно преломлявшегося гуманизма. Личный «кодекс» предусматривал определенные глубоко человечные принципы, находившие воплощение в действиях героя, его отношении к другим людям. Чувства любви и дружбы приобретали для такого индивидуалиста даже особую остроту, личное мужество становилось стержнем характера, но форма художественного выражения мысли и чувства, раскрытия характера претерпевала существенные изменения.
Хемингуэй детально разработал многие возможности, таящиеся в синтезе. Если, скажем, в его диалоге синтез имеет частное значение, то в общей структуре романа, композиции и сюжете смысл приема расширяется. Синтез здесь отражает идею всего произведения. Именно такова функция «кругового» сюжета в романе «И восходит солнце». Рассмотрим только один пример, позволяющий выявить некоторые характерные черты синтеза и «показа» в эстетике Хемингуэя.
Герой книги «И восходит солнце» Джейк Барне приглашает за свой столик в кафе проститутку:
«— Что ты будешь пить? — спросил я.
— Перно.
— Маленьким девочкам вредно пить перно.
— Сам маленький. Гарсон, рюмку перно.
— И мне рюмку перно.
— Ну как? — спросила она.— Хочешь время провести?
— Да. А ты?
— Там видно будет. В этом городе разве угадаешь?
— Ты не любишь Парижа?
— Нет.
— Почему ты не едешь в другое место?
— Нет другого места.
— А чем тебе здесь плохо?
— Да, чем?
Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко. Вкусом напоминает лакрицу и сначала подбадривает, но зато после раскисаешь. Мы пили с ней перно, и у нее был недовольный вид.
— Ну,— сказал я,— может быть, ты угостишь меня ужином?
Она ухмыльнулась, и я понял, почему она упорно не хочет смеяться. С закрытым ртом она была очень недурна собой. Я заплатил за перно, и мы вышли на улицу» [40].
Прежде всего отметим точный монтаж эпизода. Диалог принимает такое направление, что собеседники, поглощенные своими мыслями, перестают обращать внимание на окружающее. Об официанте, принесшем перно, не говорится ни слова. Можно подумать, что напиток появился на столе сам собой. Официант принес перно очень «вовремя». Перебивка диалога полна скрытого внутреннего смысла. Последняя перед появлением перно реплика проститутки направляет мысли Джейка в определенное русло. Этими мыслями он делиться с ней не может. Неизбежная психологически оправданная пауза перед переменой разговора заполняется всесторонней характеристикой перно, тем более уместной, что французский напиток может быть и неизвестен англоязычному читателю. Мысли Джейка во время паузы не пропадают для читателя. Синтез естественно сочетается с «показом», объективирующим повествование.
Так же характеризуется и следующая перебивка диалога. Когда девушка ухмыляется, Джейк видит ее испорченные зубы, и эта информация вновь объективирует сцену, находя опору в личном опыте читателя, которому, конечно, приходилось видеть, как плохие зубы портят лицо. Здесь проявляются крайне необходимые для синтеза направление и контроль ассоциаций, вызываемых в сознании читателя. На протяжении всей сцены точно, но скрыто характеризуется психологическое состояние Джейка, причем косвенное значение имеет и не относящееся непосредственно к сюжету содержание перебивок диалога.
Такого рода синтез имеет место и в зрелых романах Фицджеральда. Мы видели, что в «Гэтсби» удивительное сходство Ист-Эгга и Уэст-Эгга имеет существенное содержательное значение, так же, как и скрытый рисунок времени, в большой мере отражающий идейное содержание всего произведения. В «Последнем магнате» художественная модель, как упоминалось, ближе к действительности. Автору поэтому уже не нужно «изобретать» место действия. Пространство определяется перелетами Стара. Иначе выглядит и временная структура книги. Синтез, воплощенный в самой композиции романа, находит проявление в отмечавшейся полифункциональности третьей и четвертой глав. Большая простота и строгость языка в «Магнате» тоже в немалой степени обусловлена использованием синтеза. Приведем примеры.
В разгар напряженного делового дня, когда у Стара каждая минута на счету, к нему обращается актер, встревоженный своим физиологическим состоянием. Вопрос настолько деликатен, что обсуждение его явно не может предназначаться для посторонних ушей. Стар заранее велел предупредить актера, что сможет уделить ему не больше минуты, однако беседа затягивается: «На столе у Стара пискнул зуммер; он включил диктограф и услышал голос мисс Дулан:
— Истекло пять минут, мистер Стар.
— Виноват,— сказал Стар.— Мне понадобится еще минута-две.
— Пятьсот учениц колонной пришли из школы к моему дому,— безрадостно сказал актер,— а я только стоял и смотрел на них из-за портьеры. Так и не решился к ним выйти.
— Да ты садись,— сказал Стар.— Обсудим без спешки» (II, 384).
Далее следует перебивка диалога. Читатель так и не узнает содержания беседы Стара с актером, но вполне может составить о ней представление, ибо работа его сознания уже определенным образом направлена и он до этого не раз «видел», как Стар ведет себя в самых сложных ситуациях. Размеры перебивки (в ней рассказано о ждущих в приемной), не позволяющие ее процитировать, соответствуют (условно, конечно) времени, затраченному Старом на беседу. На протяжении всего эпизода характер Стара раскрывается без пояснений. Когда Стар с актером выходят, наконец, из кабинета, диалог сменяется полилогом, отмеченным теми же особенностями. При этом вновь без пояснений становится ясно, почему Стар не остался в кабинете, а вышел в приемную с актером. Кроме того, в сцене, завершающей весь эпизод, содержится имплицированная, но совершенно отчетливо выраженная характеристика Голливуда как такового.
Яркий пример использования синтеза для передачи психологического состояния находим в последней написанной главе «Магната». При встрече с Бриммером поведение Стара, кажется, противоречит всему, что читатель успел узнать о герое. Эту перемену невозможно объяснить только болезнью Стара или тем, что он встречается с врагом. Первая часть свидания и разговора проходит в обычной для Стара манере. Срыв представляется неожиданным до той самой минуты, когда герой, нокаутированный Бриммером, приходит в себя: «— Где он? — воскликнул Стар.
— Кто? — спросила я наивным тоном.
— Американец. Какой тебя дьявол толкал за него выходить, дура несчастная?
— Он ушел, Монро. Я ни за кого не выходила.
Я усадила Стара в кресло.
— Он уже полчаса как ушел,— соврала я» (II, 481).
Так становится понятно, что сознание Стара мучительно сверлит мысль о человеке, за которого вышла Кэтлин. Именно утрата Кэтлин является той последней и самой тяжелой каплей, которая переполняет чашу. Сесилия еще ничего не знает о случившемся, и, естественно, говорит о Бриммере, когда не вполне очнувшийся Стар невольно выдает себя. Вся сцена встречи освещается по-новому. Личный (лирический) и социальный аспекты сюжета сливаются, образуя художественное единство. Оно последовательно намечалось и в предшествующем повествовании, но еще не обозначалось так явственно. Аналогичный художественный прием нетрудно обнаружить и в романах Хемингуэя, в частности в той же книге «И восходит солнце», но, думается, о сходстве стилей обоих писателей сказано достаточно, чтобы убедиться, что определяется оно использованием синтеза. Пора обратиться к существенным различиям.
Их легче всего заметить при сравнении языка и тропов. Фицджеральд отнюдь не чуждается абстракций, свободнее использует эпитеты, часто прибегает к метафорам и сравнениям. Более того, у него нередки прямые утверждения и разъяснения, которые совершенно отсутствуют в первых двух романах Хемингуэя. Однако стиль Хемингуэя существенно обогатился в книге «По ком звонит колокол». Там автора от героя отделяет небольшая дистанция, и наличие ее позволяет органически ввести в повествование лексику и тропы, которые могли бы привести к стилистическому диссонансу в романах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Краткость и узость этой дистанции обусловливают сферу применения новых для писателя средств, обеспечивают единство, целостность стиля.
У Фицджеральда все иначе. Объясняется это принципиальное различие уже отмечавшейся особенностью его творчества. Выражая идеи «потерянных», Фицджеральд, тем не менее, никогда не порывал ни с идеей «связи времен», ни с представлениями о причинно-следственных и других достаточно сложных и широко трактуемых отношениях, определяющих характеры людей, социальных явлений, малых и больших событий. Поэтому в его зрелых романах особая повествовательная перспектива и оказывается столь важной. Начиная с «Великого Гэтсби», в стиле писателя определяющим моментом становится слияние лирического и аналитического начал, что связано с введением рассказчика или хотя бы преобладающей точки зрения. Блистательный стиль Фицджеральда имеет прочный историко-философский фундамент, и в лучших образцах его творчества достигается абсолютное соответствие, хочется сказать — сращение стилевой и содержательной сторон.
Возникает вопрос, не приводило ли сочетание анализа и синтеза к нарушению единства стиля. Чтобы ответить на него, рассмотрим еще один характерный пример. Вот как в «Магнате» описан момент сближения Стара с Кэтлин: «"Погоди",— сказала она. Ей надо было минуту подумать. Происходящее было радостно и желанно ей, но не сулило ничего затем, и надо было вдуматься, отшагнуть на час назад, осмыслить. Она стояла, поводя головой влево-вправо, как раньше, но медленнее, и неотрывно глядя ему в глаза. Она ощутила вдруг, что он дрожит. Он ощутил это и сам и ослабил объятие. И тут же, с грубопризывнымн словами, она притянула его лицо к своему. Затем, одной рукой обнимая его, движением другой руки и коленей скинула с себя что-то и отбросила ногою. Теперь он уже не дрожал, снова обнял ее, и вместе они опустились на плащ» (II, 439).
В приведенном отрывке сочетание анализа и синтеза выступает совершенно наглядно. После реплики Кэтлин идет пояснение ее психологического состояния, показывающее, почему она сказала единственное в сцене слово прямой речи. У Хемингуэя такого анализа, конечно, нет. Он построил бы действие так, чтобы слово «погоди» не требовало объяснений. А у Фицджеральда объяснение (анализ) занимает большую часть абзаца и завершается описанием движения, позы, ощущения, уже не нуждающихся в пояснении. Этот абзац в соответствии с его содержанием почти совершено статичен. Даже движение головы Кэтлин, как не забывает сообщить автор, замедляется. Действительное движение здесь «отдано» ее мысли. Зато следующий абзац, в котором выделяется изумительная по точности психологическая «синтетическая» деталь, от начала до конца динамичен, представляет собой передачу сплошного и единого действия.
В сцене участвуют двое, но анализ относится только к Кэтлин. Случившееся по-новому объединяет героев, и в последующих эпизодах это находит отражение в том, что анализ применяется уже и по отношению к Стару. Знаменательно, что обсуждение «перебивается» диалогом, по ассоциации вовлекающим посторонний, но по-своему существенный материал. «Вклинивается» в анализ и очень важная «живая» сцена. Проходит время, прежде чем Кэтлин начинает думать. «Когда же это у нас решилось? — сказала она, размышляя вслух.— Сначала кажется не нужно, незачем, а потом наступает минута и чувствуешь — ничто на свете уже не властно остановить» (II, 440). Создается впечатление, что интимная близость наступила в результате только чувственного влечения. Потом, уже после эпизода с негром, который не ходил в кино, размышления Кэтлин как бы подтверждают это. «Мне уже Калифорния нравится,— произнесла она неторопливо.— Видно, я изголодалась по сексу» (II, 445).
Конечно, чувственный момент играет свою роль, но «перебивки» анализа и сам он показывают, что этим дело не исчерпывается. Не случайно интимный эпизод, в свою очередь, «перебивает» изложение истории Кэтлин. Выясняются глубинные причины отношений героев, тогда как момент синтеза лишь передает эмоциональный накал минуты. В этом и состоит смысл «перебивок». Здесь важно, что читатель, успевший хорошо узнать Стара, знает Кэтлин много меньше. Анализ служит раскрытию ее образа, созданию правильного представления о ней. Он вводится в повествование столь же органично, сколь и синтез, потому что оказывается совершенно необходимым. Ведь и Стар недостаточно знает героиню, и ему требуются уточнения там, где ей все ясно. Так, в ответ на ее реплику («изголодалась по сексу») он спешит спросить: «Но это ведь у нас не просто секс?» (II, 445). В самой наивности вопроса «просматривается» чистота возникших отношений. Анализ строится так, что, вовлекая большой и сложный материал, органически, то есть в сюжетной обусловленности, дополняет синтез. В совокупности оба средства отражают сложные пространственно-временные связи. Анализ и синтез у Фицджеральда взаимопроникают так же, как частное и общее, чем и обеспечивается строгое единство стиля
Таким образом, можно утверждать, что синтез в творчестве писателя, с одной стороны, был подготовлен всем ходом развития современного искусства, а с другой — отразил развитие его собственной творческой манеры.
Остается добавить, что психологическая деталь используется в «Магнате» с не меньшим совершенством, чем в «Гэтсби». Она, как мы видели, появляется уже в ранних романах писателя, и в последнем его произведении почти каждый эпизод строится вокруг такой, очень выразительной, детали или включает ее.
Переворачивая последнюю написанную страницу романа, нельзя не испытать глубокого сожаления, что эта чудесная книга осталась неоконченной. В «Последнем магнате» разработка главной темы творчества Фицджеральда была продолжена на новом идейно-художественном уровне. Созданная автором галерея героев получила принципиально важное пополнение. Заканчивая обсуждение книги, хочется привести не нуждающиеся в комментариях слова Д. Б. Пристли: «Я скорее предпочел бы написать этот неоконченный роман, чем полное собрание сочинений многих вызывающих широкое восхищение американских романистов» [41].
Сложное и многообразное творчество Фицджеральда — одно из тех выдающихся литературных явлений, без которых невозможно представить художественную картину целой эпохи. Лучшие романы и рассказы писателя существенно обогатили американскую и мировую литературу, отобразили кардинальные проблемы современности. Они обладают художественной самоценностью в той же мере, что и лучшие творения Хемингуэя или Фолкнера, Томаса Манна или Гессе.
Один из крупнейших критических реалистов XX в., Фицджеральд всегда исходил из самой жизни, а не умозрительных схем, умел осмыслить и претворить собственный опыт и наблюдения так, что под его пером они обретали универсальное значение. Время оживает на страницах его книг, судьбы героев раскрываются во множественных причинно-следственных связях, в широком социально-историческом контексте.
Писатель выработал собственный непростой стиль, создал новую жанровую разновидность романа. Ему было свойственно стремление к художественному совершенству, не раз достигнутому, но формальные поиски никогда не представляли для него самодовлеющего интереса. В лучших произведениях Фицджеральда осуществлялось полное взаимопроникновение и сращение важных идей и блистательной формы. Это как бы препятствует поверхностному восприятию произведений писателя. К ним приходится обращаться неоднократно, и каждое новое прочтение вознаграждает, ибо позволяет обнаружить ранее не замеченные прекрасные художественные детали, глубже понять и полнее оценить мысль автора, соприкоснуться с большим искусством.
Зрелым романам и рассказам Фицджеральда не грозит опасность превратиться в факты только истории литературы. Им суждена долгая жизнь не потому лишь, что они ярко отображают современность, дают насыщенную глубоким содержанием художественную модель действительности. XX в. породил и заострил множество нравственных проблем. Условия жизни в наше время нередко ставят человека перед необходимостью трудного выбора. Фицджеральд всегда утверждал непреходящую ценность нравственного аспекта личности, ее морального стержня. Это едва ли не самый важный из его уроков. Разрабатывая проблемы своего времени, писатель зачастую далеко выходил за рамки конкретного момента, в живых образах воплощал темы, которые никогда не утратят актуальности. Его творчество глубоко гуманистично.
Литературный процесс имеет свои закономерности. Идеи и стиль большого мастера так или иначе преломляются в произведениях писателей следующих поколений, создавая преемственность и единство мировой культуры. Влияние, в широком смысле, творчества Фицджеральда на литературу последних десятилетий, причем не только США, очевидно, но это — тема отдельного исследования. Вышеизложенное, хочется надеяться, позволяет определить причины и естественность такого влияния, лучше сказать — воздействия. Отметим лишь следующее. Органически сочетая анализ и синтез, в новых формах развивая традиции критического реализма, Фицджеральд создал оригинальную художественную модель. Она оказалась чрезвычайно плодотворной. Присущие ей огромные потенции сегодня по-разному реализуются в произведениях новых мастеров литературы, отстаивающих извечные человеческие ценности.
Время внесет свои коррективы в оценку творческого наследия Фицджеральда. Пройдут годы, и новые читатели обратятся к его книгам, чтобы извлечь из них новые уроки и ощутить счастье соприкосновения с огромным талантом. Будут забыты скороспелые критические суждения и сенсационные романы, спекулирующие на интересе к его личности, но то, что он создал, забыто не будет. Повествуя о настоящем, вовлекая в свою сферу века истории, творчество писателя Фицджеральда обращено в будущее.
Примечания
1 Mizener A. Introduction.- In: F. Scott Fitzgerald. Afternoon of an author. New York, 1957, p. 3-5.
2 Wescott G. The moral of Scott Fitzgerald.-In: Collection 1, p. 121.
3 Fitzgerald F. S. Afternoon of an author. New York, 1957, p. 132.
4 Ibid., p. 134.
5 Еblе К. F. Scott Fitzgerald, p. 141.
6 Gross К. G. W. Op. cit., p. 96.
7 Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя, с. 256-257.
8 Там же, с. 257.
9 Там же.
10 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 127.
11 Benet S. V. The Last Tycoon.- In: Collection 1, p. 131.
12 Tray W. Scott Fitzgerald - the authority of failure.- In: Collection 2, p. 23.
13 Cowley M. Third act and epilogue.- In: Collection 2, p. 69.
14 Passos J. D. A note on Fitzgerald.-In: Collection 1, p. 155.
15 Ibid., p. 158-159.
16 Kazin A. An American confession.- In: Collection 1, p. 180.
17 Aldridge J. Fitzgerald: The horror and the vision of paradise.- In: Collection 2, p. 40.
18 Mizener A. The maturity of Scott Fitzgerald.- In: Collection 2, p. 167.
19 Miller J. E. Jr. F. Scott Fitzgerald, p. 158.
20 Millgate M. Scott Fitzgerald as social novelist: Statement and technique in "The Last Tycoon".-English Studies. 1962, Vol. XLIII, N 1, p. 29-34.
21 Hoffman F.J. The modern novel in America. Chicago, 1963, p. 140; Priestley J. B. Introduction,- In: The bodley Head Scott Fitzgerald. London, 1958, vol. 1, p. 14.
22 Gross K. G. W. Op. cit., p. 107.
23 Lathem A. Grazy Sundays. F. Scott Fitzgerald in Hollywood, p. 270.
24 Hart J. E. Fitzgerald's "The Last Tycoon": A Search for Identity. Modern fiction studies.-Spring. 1961, vol. 7, N 1, p. 66-70.
25 Perosa S. Op. cit., p. 167-176.
26 Power without Glory (1950). From the times literary supplement.- In: Collection 1, p. 210.
27 Еblе К. F. Scott Fitzgerald, p. 141.
28 Samuels C. T. The greatness of "Gatsby".- In: Collection 3, p. 159.
29 Hellman L. An unfinished woman, p. 63-64.
30 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 128-144.
31 Мендельсон М. О. Творческий путь Френсиса Скотта Фицджеральда, с. 213.
32 Анализ оригинального текста выполнен по изданию: Fitzgerald F. S. The Last Tycoon. Harmondworth, 1963, p. 156.
33 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957, т. 1, с. 182.
34 Об этом хорошо написал А. Н. Горбунов (Назв. работа, с. 131 - 132).
35 Горбунов А. Н. Назв. работа, с. 142-143.
36 Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. К., 1978.
37 Днепров В. Черты романа XX века. М.; Л., 1965; и др.
38 Основные тенденции развития современной литературы США. М., 1973; Зверев Л. М. Модернизм в литературе США, 1979; и многие другие.
39 Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи.
40 Хемингуэй Э. Собр. соч.: В 6-ти т. М. 1968, т. 1, с. 506.
41 Priestley J. В. Op. cit., p. 16.
Назад: предыдущая глава Развитие темы
Опубликовано в издании: Лидский Ю. Я. Скотт Фицджеральд. Творчество. Киев: Наукова думка, 1984 (монография).