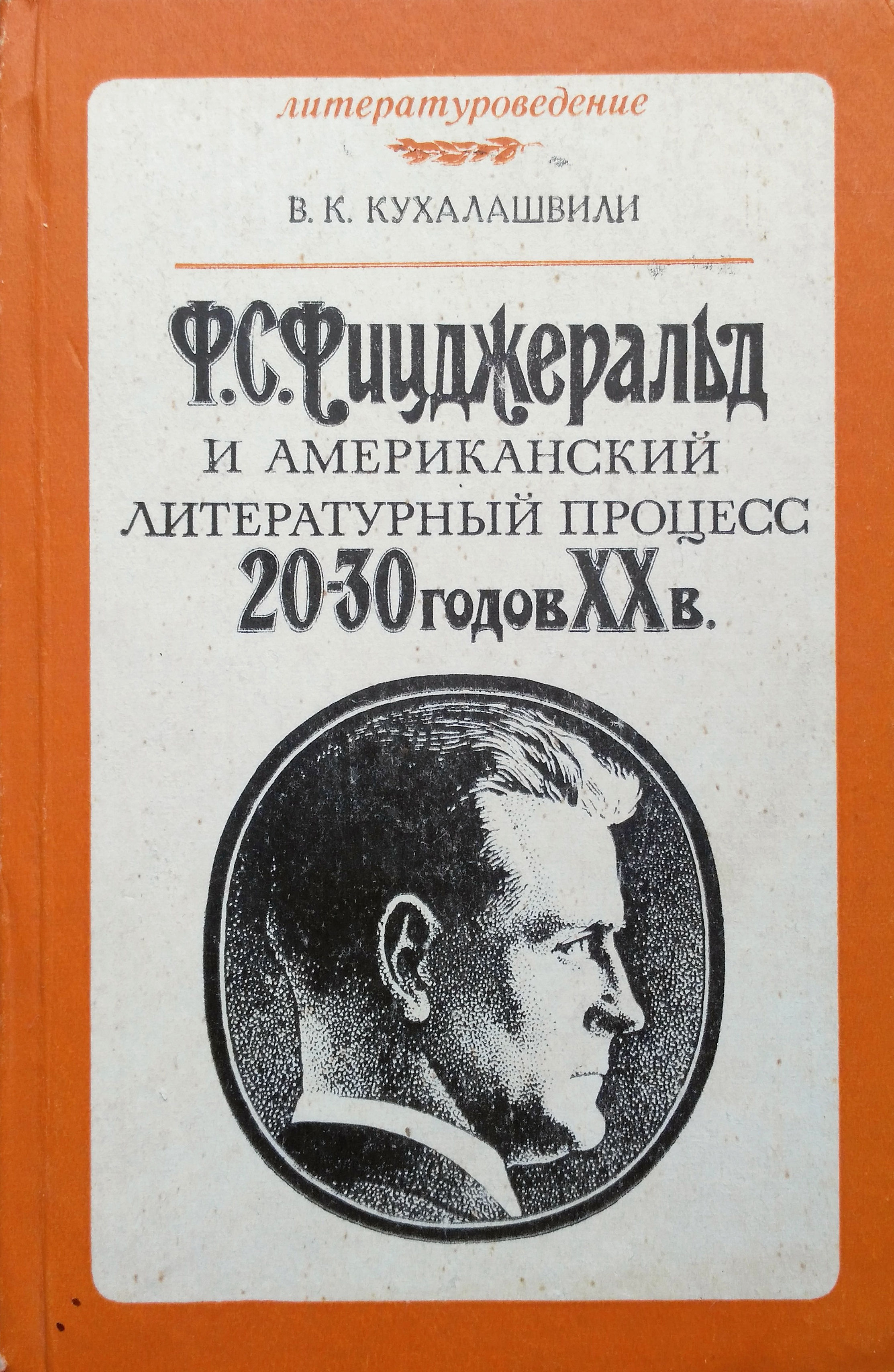Владимир Константинович Кухалашвили
Ф. С. Фицджеральд и американский литературный процесс 20-30-x годов ХХ в.
Френсис Скотт Фицджеральд и «Век Джаза»
20-е годы стали порой становления и расцвета творчества Френсиса Скотта Фицджеральда. Именно в это время выходят многие рассказы американского прозаика, а также три романа — «По эту сторону рая» (1920), «Прекрасные и обреченные» (1922) и «Великий Гэтсби» (1925).
На жизни и творчестве Фицджеральда, как и многих его ровесников, неизгладимый след оставила мировая война 1914 — 1918 гг. И не только потому, что Хемингуэй, Дос Пассос, Мак-Лиш принимали в ней непосредственное участие, а Фолкнер и Фицджеральд служили в армии на территории Соединенных Штатов. Война означала, в особенности для молодого поколения воевавших стран, нечто большее, поскольку ее последствия ощущались долгое время после подписания Версальского договора. Эта молодежь уже не верила в самую возможность общественного прогресса и тем более в абстрактные лозунги. Гуманистические иллюзии были развеяны страшной военной действительностью.
«Как всякий кризис, — писал В. И. Ленин, — война обострила глубоко таившиеся противоречия и вывела их наружу, разорвав все лицемерные покровы, отбросив все условности, разрушив гнилые или успевшие подгнить авторитеты».
Некоторые даже демократически настроенные писатели поддались ура-патриотическому угару и приветствовали, притом искренне, «крестовый поход за демократию». Тем большей неожиданностью для них явились разочарование, отрезвление, опустошенность, крушение многих идеалов, надежд, иллюзий. Но были и писатели, разглядевшие за псевдопатриотическими призывами сущность империалистической войны, грязь ее и позор, величайшее преступление господствующих классов перед человечеством. Такие художники, как Бернард Шоу, Генрих Манн, Ромен Роллан, Джон Рид, рассматривали войну как катастрофу для всего мира.
Гневная и страстная публицистика Джона Рида решительно осуждала войну, срывая с нее иллюзорно-романтическую оболочку. Антимилитаристская направленность прогрессивного журнала «Мэссиз» во многом обусловливалась участием Джона Рида в его издании. Шовинистическая пропаганда почти заглушила эти честные и трезвые голоса, но действительность, с которой столкнулись участники войны, быстро развеяла псевдопатриотический угар. Сражавшаяся под чужими знаменами молодежь, независимо от того, в армии какой страны она воевала, вернулась домой психически травмированной, слишком дорогой ценой оплатившая утрату первоначальных, романтических представлений о сущности войны. «Все вы — потерянное поколение», — повторила Гертруда Стайн молодому Хемингуэю слова, слышанные ею где-то на юге Франции. Став эпиграфом к «Фиесте» (1926), эти слова не только обозначили пропасть, разверзшуюся между «отцами и детьми», но и стали определением молодежи, опаленной войной, утратившей в какой-то степени даже свое прошлое.
«Как это ни странно, а, пожалуй, не так уж странно, — писал Ричард Олдингтон в романе «Смерть героя» (1929), — но очень многие скажут вам, что весь их довоенный отрезок жизни стерся в памяти. Довоенное уподобилось доисторическому… Такого полного уничтожения ценностей действительно не было с 1789 года». Лишь немногие писатели отваживались создавать свои произведения о судьбах «потерянного поколения» «по горячим следам», когда и само явление, и умонастроения, сопутствующие ему, еще не устоялись, да и не обозначились достаточно определенно, хотя на сцену уже вышло «новое поколение, день за днем, ночь за ночью, как в полусне выкрикивающее старые лозунги, приобщаемое к старым символам веры; обреченное рано или поздно по зову любви и честолюбия окунуться в грязную серую сутолоку; новое поколение, еще больше, чем предыдущее, зараженное страхом перед бедностью, поклонением успеху, обнаружившее, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана».
Так характеризовал Френсис Скотт Фицджеральд «потерянное поколение» в романе «По эту сторону рая» (1920) — едва ли не первой книге в литературе США, где была поднята проблема «вернувшихся». Несколько позже выпускают книги, в той или иной степени посвященные духовному кризису в послевоенной Америке, Джон Дос Пассос — «Три солдата» (1921), Эдвин Эстлин Каммингс — «Огромная камера» (1922), Эрнест Хемингуэй — «Фиеста» (1926) и «Прощай, оружие!» (1929), Уильям Фолкнер — «Солдатская награда» (1926), Гарри Кросби — «Тени на солнце» (1928).
На всех этих произведениях отразился опыт войны. И не только непосредственный, как у Хемингуэя, Мак-Лиша, Кросби, Каммингса, Дос Пассоса, но и косвенный, как у Фолкнера и Фицджеральда. Они тоже остро чувствовали свою причастность к поколению, которое, по словам писателя Бадда Шульберга, «было оглушено взрывами, хотя и не побывало на фронте».
Произведения, созданные представителями «потерянной» молодежи, были весьма разнородными, поэтому правомерно говорить о «потерянном поколении» не как о едином литературном направлении, а как о единстве умонастроений, схожести пройденного пути, краха идеалов и иллюзий, на смену которым пришли разочарование и опустошенность, порожденные глубоким потрясением. Но именно книги писателей «потерянного поколения», в том числе и Скотта Фицджеральда, во многом определили развитие литературы США в 20-е годы.
***
Френсис Скотт Фицджеральд родился 24 сентября 1896 г. в городе Сент-Пол в американском штате Миннесота в семье ирландских переселенцев. Дед Фицджеральда по матери — Филипп Френсис Маквиллан — переехал в США из Ирландии еще в 1843 г. Начав карьеру с должности посыльного, энергичный, способный и предприимчивый эмигрант за довольно короткий срок стал преуспевающим бизнесменом. К концу своей недолгой жизни (дед Фицджеральда умер в сорок три года) он уже был владельцем огромного по тем временам состояния и, казалось, олицетворял собой «американскую мечту» — национальный миф, в соответствии с которым любой чистильщик обуви может стать миллионером в обществе «свободного предпринимательства». Но совершенно другая история произошла с отцом будущего писателя — Эдвардом Фицджеральдом. Постепенно разоряясь, переезжая из города в город, он катился вниз и, в конце концов, семья Фицджеральдов вынуждена была вернуться в Сент-Пол, где им помогали Маквилланы, родственники матери маленького Скотта. К неудачнику богачи относились с пренебрежением и не скрывали этого. Это не могло не отразиться и на Фнцджеральде, который тяжело переживал унижение отца. Последовала реакция — желание во что бы то ни стало выделиться среди сверстников, достичь успеха. Эти чувства разжигал и дух соперничества, царивший и в привилегированной частной школе, и особенно в Принстонском университете. Конечной целью Фицджеральда было достижение непререкаемого авторитета хоть в какой-то области.
Одновременно с неприкрыто враждебным отношением к богачам уже в юношеские годы Фицджеральд склонен был окружать их, точнее, их стиль жизни, неким романтическим ореолом, и эта раздвоенность была присуща ему на протяжении довольно долгого времени, хотя «все, кто знал Фицджеральда с юности, свидетельствовали, как настойчиво он преодолевал чувство собственной неполноценности, внушенное Маквилланами и атмосферой их дома. Он никогда не заискивал перед однокашниками из «хороших семей»; он знал, что для него есть только один способ проникнуть в их мир — доказать, что он необходим. И доказывал. Хрупкий, болезненный подросток, он все-таки сумел попасть в футбольную команду школы и даже сделался звездой. В Принстоне он добился, чтобы его приняли в клуб, куда допускалась только университетская элита, и с этой целью писал либретто музыкальных постановок, которые там время от времени осуществляли».
Именно в Принстонском университете молодой Фицджеральд познакомился и сдружился с поэтом Джоном Пилом Бишопом, ставшим прообразом Томаса Парка д'Инвильера в романе «По эту сторону рая», и со знаменитым впоследствии литературным критиком Эдмундом Уилсоном, дружба с которым продолжалась до конца жизни писателя. Эдмунд Уилсон, оставаясь верен этой дружбе и после смерти Фицджеральда, отредактировал и подготовил к печати два посмертных издания писателя — неоконченный роман «Последний магнат» и сборник писем, очерков, эссе «Крушение». А в годы совместной учебы в Принстоне Уилсон и Фицджеральд были соавторами музыкального спектакля «Дурной глаз». Этот спектакль два года не сходил с любительской сцены аристократического клуба «Треугольник». Автором либретто был Уилсон, а слова к песням написал Скотт Фицджеральд.
Во время учебы в университете Фицджеральд упорно работает над своим первым романом — «Романтический эгоист». Первый вариант был завершен начинающим писателем в 1917 г., в то время, когда США объявили войну Германии.
Фицджеральд вступает добровольцем в армию и отправляется в Форт Ливенворт для прохождения службы. Ему не суждено было пересечь океан и принять участие в боевых действиях, о чем писатель сожалел даже в 30-е годы, вспоминая о «чувстве обиды», которое он тогда ощутил (эссе «Крушение»). Еще перед отъездом из Принстона в военный лагерь Фицджеральд показывал рукопись романа профессору Кристиану Гауссу, специалисту по романо-германским литературам. Гаусс пытался убедить начинающего писателя не публиковать роман. Приняв некоторые замечания Гаусса, Фицджеральд не опустил руки. Он переписал книгу в военном лагере весной 1918 г., но осенью роман был отвергнут издательством «Скрибнерз».
Фицджеральд был вынужден продолжать военную службу в городе Кэмп Шеридан в штате Алабама, где он познакомился со своей будущей женой Зельдой. Казалось, повторяется история первой любви Фицджеральда — будучи студентом Принстона, он полюбил девушку, которая принадлежала к денежной аристократии Чикаго и поэтому их брак не мог состояться. Свадьба Фицджеральда с Зельдой Сэйр была отложена из-за материальной необеспеченности молодого офицера. После демобилизации Фицджеральд едет в Нью-Йорк, где работает мелким клерком, пытается печатать свои первые литературные опыты. Как видим, в работе начинающего писателя над первым романом было немало перерывов, но появился стимул его кончить: Зельда объявила ему о разрыве помолвки, сказав и о причине — его бедности. Все надежды Фицджеральда на женитьбу были связаны только с романом: судьба книги определяла и судьбу ее автора. Фицджеральд оставляет работу в рекламном агентстве железной дороги и отправляется на родину — в Сент-Пол, где упорно пытается завершить роман «Романтический эгоист», впоследствии переименованный автором в «По эту сторону рая».
На этот раз издательство «Скрибнерз» приняло книгу к печати, и роман вышел в свет, став неожиданно для всех одним из наиболее популярных бестселлеров.
Спустя восемнадцать лет Фицджеральд вспоминал об этом в статье «Ранний успех»: «Я был влюблен в яркокрылую бабочку, чтобы поймать ее, требовалось сплести огромную сеть, придумать ее из головы, а в голове у меня было пусто, только позвякивали медные монеты, извечная шарманка бедняков. И вот, когда моя девушка дала мне отставку, я поехал домой и дописал свой роман. Тут все разом переменилось; и сейчас я пишу, чтобы вспомнить, как ветер успеха впервые подул в мои паруса и принес с собой чарующую дымку» … «Замечательное это было время и недолгое — дымка рассеивается через несколько недель, ну, может быть, через несколько месяцев, и тогда видишь, что все лучшее уже позади».
Первая книга Фицджеральда имела огромный успех среди читателей — двадцать тысяч экземпляров было распродано в течение первой же недели после ее выхода. Критика тоже весьма благожелательно отнеслась к дебютанту, хотя радость Фицджеральда и была несколько омрачена консервативными кругами Принстонского университета во главе с его президентом Хиббеном, которые с лицемерной демагогией обрушились на роман. «Все лето я был в отчаянии, — вспоминал впоследствии Фицджеральд, — и вместо писем писал роман, и все получилось хорошо, только хорошо все получилось для другого человека, каким я тогда стал. Этот другой человек, с чековой книжкой в кармане, год спустя женился на той самой девушке, но в нем уже навсегда затаились недоверие и враждебность к богатым бездельникам — не отношение убежденного революционера, скорее тайная незатухающая ненависть крестьянина. И с тех пор я не могу не задаваться вопросом, откуда берут деньги мои друзья, и не могу забыть, что было ведь время, когда кто-нибудь из них мог бы осуществить по отношению к моей девушке droit de seigneur».
Но тем не менее это был счастливый период в жизни Фицджеральда. После выхода в свет романа исчезли все препятствия к его женитьбе на Зельде. Молодой писатель стал знаменитостью, все, что бы он ни написал, без промедления публиковалось, ему платили большие гонорары. Фицджеральд прекрасно понимал уже тогда, что все это произошло только благодаря успеху его первого романа. В 1920 г. Фицджеральд в одном из писем сказал: «Все, что я думаю о писательском ремесле, можно выразить одной фразой. Писать нужно для молодежи собственного поколения, для критиков следующего поколения и для профессоров всех последующих поколений».
Это высказывание во многом объясняет популярность первой книги писателя.
Притягательность далеко не совершенного романа «По эту сторону рая» заключалась прежде всего в том, что он был написан для молодежи «собственного поколения». Период времени, воссозданный в первом крупном произведении Фицджеральда, совпадал с порой становления его «потерянных» ровесников. Они с таким интересом восприняли поиски собственного пути, «воспитание чувств» Эмори Блейна, главного героя книги, поскольку сходные во многом проблемы волновали и их. Сам Фицджеральд в эссе «Отзвуки века джаза» (1931) писал: «Меня вынесло в те годы на поверхность, меня осыпали похвалами и засыпали деньгами, о которых я не смел и мечтать, и все по одной-единственной причине — я говорил людям о том, что испытываю такие же чувства, как они сами, и что надо найти какое-то применение всей этой нервной энергии, скопившейся и оставшейся неизрасходованной в годы войны».
И эта «нервная энергия» самого Фицджеральда в определенной степени была направлена и против буржуазной морали, и против викторианского лицемерия, и даже против религиозных догм. Эпиграф к роману взят из стихотворения Руперта Брука — английского поэта, погибшего во время первой мировой войны:
По эту сторону рая
Мудрость — опора плохая.
По существу, весь роман представляет собой рассказ о том, как Эмори Блейн — «эгоист» и «мечтатель» освобождался от жестких установок и требований старшего поколения. Но поначалу образ Эмори весьма статичен. Юный Блейн, принадлежа к привилегированному классу, с детства обрел «чувство превосходства», внушенное ему родителями и их богатством. Его мать Беатриса усиленно культивирует в Эмори ощущение принадлежности к высшей касте, она полностью восприняла формулу успеха в соответствии с «идеалами» буржуазной Америки и, мечтая видеть Эмори видным финансистом, пытается привить ему аналогичные взгляды: «Начинать нужно, кажется, с рассыльного или кассира, а потом можно продвигаться все выше и выше, почти без предела».
Под влиянием матери в Эмори развивается инфантильность и мечтательность, сентиментальность и склонность к слезливым мелодрамам, у него практически нет способности к самостоятельному мышлению, оценкам, действиям. Не удивительно, что юного Блейна недолюбливают соученики, поскольку он перенес ощущение превосходства и на отношения с людьми. Его самолюбование доходило до таких пределов, что «он не отказывал себе в оригинальности, обаянии, магнетизме, умении затмить любого сверстника и очаровать любую женщину».
Первоначально в Эмори — куда больше от лентяя и фантазера, нежели от «бунтаря». Внутреннее развитие образа Эмори Блейна, по-существу, начинается в принстонский период его жизни. Именно здесь он впервые ставит под сомнение истинность ценностей мира, которому всецело принадлежит Беатриса, обнаруживает, что порядок вещей и равновесие, в которые его убеждали свято верить, безвозвратно исчезли. Его спокойная благополучная жизнь прерывается войной и вместе с ней приходит расплата за юношеские иллюзии, а зыбкая «философия успеха» развеивается как дым. Стремления Эмори вступают в противоречия с кастовой солидарностью «очень богатых людей», поскольку, после разорения родителей, он переходит в лагерь неимущих. Не случайно он в чем-то повторяет путь своего старшего друга монсеньора Дарси, любовь которого не сбылась из-за его бедности. Мать Эмори по-настоящему любила Дарси в молодости, но «решила выйти замуж в соответствии со своим общественным положением». По той же причине Эмори расстается со своей любимой — Розалиндой — девушкой из богатой семьи.
Эта тема не случайно впоследствии станет сквозной в творчестве Фицджеральда. Писатель сознавал, что лишь благодаря счастливой случайности ему удалось избежать судьбы главного героя своего первого романа.
Фицджеральд сталкивает романтическое умонастроение Эмори с трагической действительностью, что нашло более глубокое воплощение в его позднейших произведениях, хотя уже в первом своем крупном произведении Фицджеральд явно превосходил в этом отношении английского писателя Комптона Маккензи, автора романа «Мрачная улица» (1914), с которым некоторые американские литературоведы сравнивали «По эту сторону рая». Совпадал внешний сюжет, да и жизненный путь Майкла Фейна — героя романа Маккензи — во многих деталях был сходен с жизненным опытом Эмори, о чем писал Фицджеральд в одном из своих писем, указывая, однако, что влияние «Мрачной улицы» на его творчество этим и ограничилось.
Эмори Блейну присуще то — пусть стихийное — бунтарство, которого начисто лишен Майкл Фейн. Если еще в Принстоне Эмори не был противником «кастовой системы», при условии собственной принадлежности к «правящей верхушке, к кучке счастливчиков», то впоследствии его взгляды претерпевают значительную эволюцию. Причиной тому явилось и разорение родителей, и горький военный опыт, и влияние социалистических идей.
Война почти не показана Фицджеральдом в его первой книге, как, впрочем, и у Фолкнера в «Солдатской награде» (1926). Ведь Фицджеральд и Фолкнер, в отличие от Хемингуэя, Дос Пассоса, Мак-Лиша, Каммингса, так и не побывали на фронте, лишившись, таким образом, личных, непосредственных впечатлений. Но в то же время влияние войны на судьбы «вернувшихся» было столь сильным, что не смогло оставить безучастными как Фицджеральда, так и Фолкнера.
Именно война обусловила «потерянность» Эмори Блейна. Однако в его мировосприятии происходят значительные перемены. Впервые Эмори пытается мыслить самостоятельно, искать свой путь. В финале книги он находится как бы между классами: к привилегированному он уже не принадлежит, а к неимущим психологически еще не может принадлежать. Однако умонастроение Эмори Блейна изменилось настолько, что он способен резко полемизировать с богачом, случайно встреченным по дороге в Принстон. Во время разговора о социализме и революционной России Эмори приходит к неожиданным — даже для самого себя — выводам, совершенно невероятным для прежнего Эмори Блейна: «Сегодня я в первый раз в жизни ратовал за социализм. Другой панацеи я не знаю. Я неспокоен. Все мое поколение неспокойно. Мне осточертела система, при которой кто богаче, тому достается самая прекрасная девушка, при которой художник без постоянного дохода вынужден продавать свой талант пуговичному фабриканту. Даже не будь у меня таланта, я бы не захотел трудиться десять лет, обреченный либо на безбрачие, либо на тайные связи, ради того, чтобы сынок богача мог кататься в автомобиле».
Эмори прошел через многие разочарования, юность его окончилась вместе с войной, во взглядах все еще царит хаос, но тем не менее он уже на всю жизнь обрел критическое отношение к системе свободного предпринимательства, к буржуазной «демократии».
Фицджеральд весь свой еще очень небогатый жизненный опыт использовал для написания «По эту сторону рая». Работа над романом много дала молодому писателю, хотя и осталась порой ученичества, подходом к «своей» книге. Исповедальные, искренние ноты остались приглушенными из-за растянутости романа, из-за композиционных просчетов. Страницы, исполненные подлинного лиризма, столь полно проявившего себя в последующих книгах, перемежаются сентиментальными красивостями и псевдопатетикой. «Диалогические» отрывки с ремарками, скомпонованные в соответствии с принципами построения драматургического произведения, несмотря на всю авторскую иронию, остаются словесной риторикой. Мистическое явление Эмори Блейну дьявола и погибшего товарища выглядят чужеродными. Огромное количество цитат, «интеллектуальные» разговоры о литературе, искусстве, философии объясняются не только желанием автора придать образу Эмори Блейна автобиографические черты, но и далеко еще не устоявшимися, иногда весьма наивными эстетическими взглядами самого Фицджеральда. Образно-эмоциональное восприятие действительности уступало место не только по-юношески непосредственным размышлениям, но и наивным медитациям, которые часто являлись и по мысли, и по форме «отраженным светом».
Автобиографический элемент играл огромную роль в романе. Конечно, дистанция между Эмори Блейном и самим Фицджеральдом невелика, но она существовала. И совершенно неверным было, как это часто делала американская критика, отождествлять мысли и поступки Фицджеральда с мыслями и поступками его героев, в частности Эмори Блейна.
Как в свое время «имедж» Хемингуэя, его «кодекс героя» породил «легенду» Хемингуэя, так склонность к прожиганию жизни, инфантилизм, преклонение перед богатыми людьми, присущие некоторым персонажам Фицджеральда, переносились на самого писателя. Конечно, иногда он сам давал повод к подобным суждениям, но, по его собственному выражению, «людям не приходило в голову, что перед ними просто маска, скрывающая настоящее лицо». И когда появились наиболее зрелые произведения Фицджеральда, такие, как «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», не совпадавшие с «легендой», мало кто смог почувствовать их истинную силу, оценить масштаб творческой эволюции писателя. Впрочем, еще летом 1920 г. в письме ректору Принстонского университета Джону Хиббену Фицджеральд с искренностью, которую вряд ли можно подвергнуть сомнению, писал о том, что его «идеализм испарился», а взгляды на жизнь и творчество совпадают со взглядами Теодора Драйзера и Джозефа Конрада, — и такая автохарактеристика говорит о многом — о стремлении молодого писателя обладать социальной прозорливостью Драйзера и так же, как Конрад, упорно работать в поисках своего стиля. Он уже тогда пытался объединить в своем творчестве два начала — социально-критическое и лирико-романтическое.
Узкий подход многих американских литературоведов к творчеству Фицджеральда, в частности к роману «По эту сторону рая», объясняется наряду с другими причинами и тем, что они, фактически, прибегают лишь к биографическому методу исследования, усматривая своеобразие произведений выдающегося мастера американской прозы только в рамках выражения его жизненного опыта. Но нельзя всерьез полагать, будто лишь учеба в Принстоне, история женитьбы на Зельде Сэйр послужили основой этого романа, что жизнь в Европе, психическое заболевание жены были тем потрясением, после которого Фицджеральд не смог не написать «Ночь нежна», что только работа в Голливуде, общение с продюсером Ирвином Талбергом превратились в страницы «Последнего магната» и т. д. Безусловно верным представляется утверждение В. Г. Белинского о том, что «ни один поэт не может быть велик ни от самого себя, ни через собственные страдания, ни через свое собственное блаженство: всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории, что он, следовательно, есть орган и представитель общества, времени, человечества».
При всем том факты биографии писателя, конечно же, имеют большое значение. Но преобразование факта в художественный образ у Фицджеральда происходило по-своему, поскольку «фантазия Фицджеральда, в душе всегда остававшегося поэтом-лириком, питалась в первую очередь его личными эмоциональными и духовными переживаниями. С необычайной интенсивностью устремлялась она в глубь его самого, а потом уже шла к осмыслению внешних фактов и событий. И чем дольше жил Фицджеральд, тем больше вторгалось в его творчество это внешнее начало, тем шире становилось его понимание и охват жизни. В тех же случаях, когда Фицджеральд пытался сочинять, идя от внешнего к внутреннему, основываясь на далеком от него, опосредствованном, полученном из вторых рук опыте, его обычно постигала неудача. Примером могут служить главы начатой им в 30-е годы исторической повести».
Выдающийся американский прозаик Шервуд Андерсон, оказавший значительное влияние на всю литературу «потерянного поколения», считал, что в художественном преломлении автобиографические элементы могут возвыситься до творческого открытия. И Фицджеральду, и Хемингуэю, и Фолкнеру была близка эта творческая установка Андерсона, но приобретенный ими опыт неодинаков, хотя во многих чертах сходен.
11 ноября 1918 г. было подписано перемирие, означавшее для Соединенных Штатов окончание первой мировой войны, оказавшей большое влияние на судьбы и умонастроения людей. Но еще большее влияние на развитие мировой истории оказала Великая Октябрьская социалистическая революция. Безусловно решающей является роль Октября и в развитии мировой литературы. Если в самое первое время многие западные интеллигенты были склонны приписывать Октябрьской революции сугубо «локальное», «национальное» значение, то в последующие годы все больше европейских и американских художников оказываются так или иначе вовлеченными в те могучие общественные течения, которые были вызваны рождением первого в мире социалистического государства.
Однако влияние Октября не следует искать лишь там, где «писатель до конца осмысливал его, сознательно обращался к опыту нашей страны, в этом новом ракурсе исследовал социальную действительность у себя на родине. Конечно, в данном случае воздействие было наиболее сильным и плодотворным! Но это далеко не единственная форма влияния. Оно весьма значительно даже тогда, когда остается неосознанным».
Симптоматично, что в 1919 г., когда была создана Коммунистическая партия США, вышла не только лучшая на Западе книга о Великом Октябре — «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, но и роман «социалиста чувства» Эптона Синклера «Джимми Хиггинс», отразивший как романтические представления автора о классовой борьбе, так и его поддержку Советской России, и сборник Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо», где во многих рассказах проявился мастерский психологический, социальный критицизм писателя. В том же году Фицджеральд завершил роман «По эту сторону рая» с его весьма симптоматичным финалом.
Послевоенные годы в США были ознаменованы быстрой, особенно по сравнению с Европой, экономической стабилизацией, а затем и экономическим бумом. В период экономического бума национальный долг США был полностью ликвидирован, быстрыми темпами шел процесс концентрации монополистического капитала — внешне наступил «золотой век» процветания, «век джаза», как назвал его Фицджеральд. Но даже в ту пору благополучие, да и то, как показали последующие события, весьма относительное, касалось менее четверти населения страны. Уже тогда, в период «просперити» налицо был разрыв между сущностью и видимостью социальной реальности.
Начало творческого пути Фицджеральда совпало с началом «века джаза». И хотя он впоследствии писал о своей тогдашней творческой позиции с известной долей самоиронии, его предвидения во многом оправдались — не только великая депрессия, но и годы «просперити» были отмечены печатью трагизма, о чем говорит и сам писатель: «Все сюжеты, которые приходили мне в голову, были так или иначе трагичны — прелестные юные герои моих романов шли ко дну, алмазные горы в моих рассказах взлетали на воздух, мои миллионеры были вроде крестьян Томаса Гарди: такие же прекрасные, такие же обреченные. В действительности подобных драм еще (выделено нами. — В. К.) не происходило, но я был твердо убежден, что жизнь — не тот беззаботный праздник, каким она представлялась поколению, которое шло вслед за моим».
Действительно, жизнь в США не была «беззаботным праздником», и это чутко уловил и отразил не только в романах, но и в лучших рассказах Скотт Фицджеральд.
Но молодой Фицджеральд в большой степени находился во власти собственных иллюзий, а когда пришло прозрение, оно оказалось весьма горьким. Но в то же время появилась и способность к трезвому взгляду на мир, к ироничной и очень точной самооценке «поэту сторону рая»: «И на короткий миг — уже следующего оказалось достаточно, чтобы убедиться в моей непригодности для такой роли. — я, зная о Нью-Йорке меньше, чем любой репортер, покрутившийся в газете с полгода, и представляя нью-йоркское общество хуже любого из тех непристроенных юнцов, что околачиваются в бальном зале отеля «Риц», вдруг сделался, мало сказать, выразителем эпохи, но еще и ее типичным порождением».
После выхода в свет «По эту сторону рая» произведения Фицджеральда печатаются в крупнейших американских журналах. Гонорары писателя за один рассказ подскочили с тридцати долларов до тысячи. Он добился успеха, столь непохожего и все-таки в чем-то сходного с успехом своего деда Филиппа Маквиллана, ведь и Фицджеральд, и Маквиллан достигли его в соответствии с любимым мифом американцев, с «американской мечтой». Вместе со славой к писателю пришла привычка жить широко.
«Блестящая светская жизнь» требовала огромных расходов, и Фицджеральд начинает писать для журналов развлекательные рассказы, которые сам пренебрежительно именует «дрянью». На этих рассказах остался отблеск несомненного таланта, богатейшей фантазии писателя, но уровень большинства из них был гораздо ниже возможностей Фицджеральда.
Говоря о наследии Фицджеральда в жанре малой прозы невозможно пройти мимо такого феномена, как американский «журнальный рассказ», поскольку довольно много произведений писатель предназначал для коммерческих изданий. На рубеже XIX — XX в. возникла и к началу 20-х годов американского читателя уже широко «снабжала» своей продукцией огромная, хорошо налаженная фабрика популярной литературы, мощное трестированное производство чтива.
Когда какой-нибудь писатель набредал на ходкую тему и становился знаменитым, «Сатердей ивнинг пост» или «Либерти» заказывала ему за большое вознаграждение партию рассказов-вариаций на эту тему. «Товар покупали на корню, чтобы печатать серию рассказов, пока это не надоест читателю, а чаще для того, чтобы пресечь самую возможность для автора сотрудничать в конкурирующем журнале». Надо сказать, что Фицджеральд написал для «Сатердей ивнинг пост» немало рассказов, которые, хотя и отличались от традиционных коммерческих «рассказов-вариаций», но им все же не были присущи оригинальность, драматизм действия, тонкий психологический анализ, характерные для лучших новелл автора «Великого Гэтсби». Если в таких рассказах, как «На улице, где живет столяр», «Три часа между самолетами», «Зимние мечты», «Изверг», преобладает внутренний сюжет, писателя интересуют глубоко скрытые эмоции, психология личности, влияние «американской мечты» на личность, то в «развлекательных» рассказах Фицджеральда главное внимание уделено сюжету внешнему, занимательности, приключенческой фабуле.
Резко осуждая за это своего бывшего друга, Хемингуэй писал: «В Клозери-де-Лила» он рассказал мне, как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать потому, что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги».
Фицджеральд не смог отказаться от материального благополучия, а, главное, отказать в этом своей жене Зельде. Отсюда и десятки наспех написанных страниц, эксплуатация собственного таланта в угоду дельцам от искусства, частичный отказ от своих творческих принципов.
Но даже в «развлекательных» рассказах Фицджеральда содержались моменты, позднее плодотворно использованные писателем в произведениях крупной формы. Так, в рассказе «Голова и плечи» (1920) впервые в его творчестве прозвучал мотив «смены ролей», позднее в полной мере проявившийся в романе «Ночь нежна», где он играет исключительно важную роль.
Новеллистическое наследие писателя неравноценно, и это можно сказать не только о произведениях, созданных в 20-е годы, которые, впрочем, тоже весьма показательны. Наряду с рассказом «Голова и плечи» и, к примеру, другим «коммерческим» рассказом «Морской пират» в том же 1920 г. Фицджеральд публикует и такие значительные произведения малой формы, как «Первое мая», «Дэлиримпл сбивается с пути», в котором герой войны, вернувшись с фронта, не находит себе места в жизни и становится грабителем.
Рассказ «Первое мая» (скорее, небольшая повесть) не только передает духовный кризис американской послевоенной жизни, но и является острой сатирой на «просперити», о чем свидетельствует хотя бы своеобразное «вступление», резко контрастирующее с последующими сюжетными ходами: «И столь весело и громко прославляли барды и летописцы мир и процветание города-победителя, что все новые толпы расточителей стекались сюда с окраин страны, стремясь упиться хмелем наслаждений, и все быстрей и быстрей освобождались купцы от своих побрякушек и туфелек, пока отчаянный вопль не исторгся из их груди, ибо им потребны были еще и еще безделушки и еще, и еще туфельки, дабы удовлетворить спрос… Но никто не внимал их воплям — всем было не до них. День за днем пехота весело маршировала через город, порождая всеобщее ликование, ибо юноши, возвращавшиеся с фронта, были мужественны и чисты, щеки их были розовы и зубы крепки, а молодые девушки, ожидавшие их дома, были пригожи и невинны».
В ироническом вступлении Фицджеральд изображает внешние приметы Америки послевоенной — Америки начала экономического бума. Но он смог разглядеть не только внешнюю позолоту, но и пока еще скрытый трагизм, оборотную сторону карнавального празднества. Романтическая и реалистическая тенденция слиты воедино не только в романах, но и в рассказах Фицджеральда. Но в «Первом мая» лирико-романтические черты почти не заметны, поскольку повествование развивается в ироническом ключе.
Фицджеральд в этом рассказе развенчивает и миф об Америке как о стране «равных возможностей». Именно несоответствие надежд героя и безжалостной действительности толкают на самоубийство вернувшегося с войны Гордона Стеррета («Первое мая»). Впервые в американской литературе появился образ «потерянного» героя, гибнущего из-за трагического разрыва между мечтой и действительностью, иными словами, впервые был поставлен под сомнение социально-этический миф — «американская мечта». Наконец, в художественном произведении 20-х годов американский писатель впервые находит в послевоенной эйфории времен экономического бума как трагические, так и уродливые черты.
В «Первом мая» Фицджеральд развивает несколько параллельных сюжетных линий. Его интересует не только опустошенность молодежи, вернувшейся с войны, но и социальное бытие Америки. Гедонистический разгул изображен Фицджеральдом на фоне разгрома полицией первомайской демонстрации 1919 г. и преследования социалистов в послевоенной Америке, политической реакции, как оборотной стороны экономической стабилизации. Процветание и всеобщее преуспевание были, конечно же, недолговечными, что впоследствии подтвердил грандиозный экономический кризис.
Начало «великой депрессии» одновременно означало и конец «века джаза». И уже через два года после начала невиданного кризиса в американской экономике, в 1931 г. Скотт Фицджеральд создает первое из серии знаменитых эссе, позднее объединенных и напечатанных в посмертной книге «Крушение» (1945). Хотя Фицджеральд и пишет о том, что в период джазового века он «не испытывал решительно никакого интереса к политике», но в действительности писатель, хотя и не принимал непосредственного участия в политической жизни, но уже тогда чутко относился к малейшим изменениям в жизни общества. Об этом свидетельствует с полной очевидностью его рассказ «Первое мая».
Не случайно уже зрелый писатель вспоминает о тех днях и в «Отзвуках века джаза», вспоминает с гораздо большей горечью. Постепенное освобождение от иллюзий началось не перед кризисом 1929 г., но гораздо раньше — «примерно в дни майских демонстраций 1919 года. Когда полиция силой разгоняла толпу демобилизованных парней из провинции, разглядывавших ораторов на Мэдисон-сквер, более интеллигентная молодежь не могла не проникнуться отвращением к нашим порядкам. Мы и не вспоминали про билль о правах, пока о нем не начал твердить Менкен, но и без того хорошо знали, что подобной тирании место разве что в крошечных нервозных государствах на юге Европы. Л раз правительство до такой степени подчинилось заевшимся бизнесменам, нас, похоже, и впрямь погнали на войну ради займов Дж. П. Моргана».
Фицджеральд, конечно, ошибался, считая лишь «интеллигентную молодежь» способной прочувствовать всю низость буржуазных правопорядков, но в целом можно говорить об огромной дистанции, отделяющей молодого автора «Первого мая» от сознательного критика буржуазного миропорядка в «Отзвуках века джаза», да и во всей серии эссе «Крушение».
С горечью Фицджеральд пишет о соглашательстве, равнодушии, что помогло «бизнесменам-шантажистам» вертеть, как им заблагорассудится, «манекеном, восседавшим на троне Соединенных Штатов». А соглашательство, пороки, компромиссы были следствием того, что крошки от «государственного пирога» перепадали иногда не только придворным летописцам, защитникам трона, но и слабым, хотя и честным людям. Где не удавалось добиться своего силой, уговорами или газетной лестью, там действенным оказывался подкуп, прямой или завуалированный. В связи с этим вспоминаются слова В. И. Ленина, которые можно непосредственно соотнести не только с этим эссе писателя, но и со всем его творческим путем и — шире — с положением любого художника в буржуазном мире: «В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики?» И дальше: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».
Такая «свобода» на поверку оказывается мнимой, и это в 30-е годы со все большей ясностью ощущал Фицджеральд. Он пишет о том, что несмотря на все беззакония и несправедливости в «век джаза», страсти разгорались редко — лишь в вопиющих случаях, таких, как дело Сакко и Ванцетти, или ставшая газетной сенсацией корруптивность президента Гардинга и его высокопоставленных друзей. И конечно лишь в «красные тридцатые» и никак не ранее писатель с такой определенностью мог ретроспективно высказаться о том, что во время бума, «самой дорогостоящей оргии в истории», в нем раз и навсегда «затаились недоверие и враждебность к богатым бездельникам — не отношение убежденного революционера, скорее тайная, незатухающая ненависть крестьянина».
В то же время не стоит распространять постоянно употребляемое Фицджеральдом в этом эссе «мы», «нам» на всю нацию, на всю страну. Фицджеральд говорит только от лица определенных кругов «интеллигентной молодежи», но и внутри этой прослойки существовала дифференциация, порой весьма значительная, иногда позиции становились полярными, но если говорить о писателях США, то временами даже разные убеждения и творческие принципы не мешали им в той или иной мере примыкать к демократическому общественному движению, либо становиться в оппозицию к буржуазному миропорядку, особенно в 30-е годы. Но в конце 10-х годов до Америки докатились отзвуки мощных мировых катаклизмов — мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции, началась так называемая «война за демократию», сначала обнадежившая молодых американских интеллигентов, а затем их надежды, чаяния, иллюзии были беспощадно развеяны.
Ведь существовала и оборотная сторона карнавального праздничного разгула и «гедонистических» излишеств среди «блеска и одиночества». Фицджеральд писал об этих двух периодах именно с точки зрения прогрессивно настроенной интеллигенции, считавшей, по наивности, в 1919 г., году стачек, подъема рабочего движения, что революция в Америке произойдет как бы сама собой, но в начале 30-х, возмужав, оценивали политическую ситуацию в гораздо менее радужных тонах: «События 1919 года внушили нам скорее цинизм, чем революционные стремления (надо учесть, что слово «цинизм» у Фицджеральда имеет особую окраску. Советский литературовед Я. Н. Засурский определяет его, прежде всего, как «цинизм по отношению к буржуазным нормам, и в этом цинизме было много и здорового»). Хотя теперь все мы то и дело принимаемся шарить по своим сундукам в поисках невесть куда исчезнувшего флага свободы — «Черт побери, да ведь был же он у меня, я помню!» — и русской мужицкой рубахи, тоже пропавшей».
Но уже в 1920 г. в рассказе «Первое мая» Фицджеральд изображает, пусть и несколько поверхностно, противников капитализма, предчувствует иллюзорность и недолговечность «просперити».
Любопытно, что в вышедшей через шесть лет после «Первого мая» пьесе Джона Дос Пассоса «Мусорщик» звучат сходные мотивы, а в ее финале символический «День процветания» вместе со всеми действующими лицами сметается со сцены огромной метлой мусорщика.
В рассказе «Первое мая» Фицджеральд наметил некоторые линии и характеры, позднее воплотившиеся с безусловно большей художественной силой в романе «Прекрасные и обреченные».
В 1919 г. он писал Максуэлу Перкинсу о своем замысле написать роман под условным названием «Демонический любовник». Однако замысел этот остался неосуществленным, поскольку уже через несколько недель Фицджеральд вплотную приступил к работе над романом «Дневник литературной неудачи», который также никогда не был окончен. Фицджеральд в поисках своей темы отказывается еще от нескольких замыслов больших прозаических произведений, пока не останавливается, наконец, на теме, ставшей весьма близкой ему навсегда. Писатель хотел изобразить человека со вкусом и талантом художника, не имеющего, однако, истинного творческого вдохновения, прожигающего жизнь вместе со своей молодой женой, гибнущего духовно.
Поначалу роман назывался «Полет ракеты», но впоследствии Фицджеральд дал ему окончательное и, безусловно, более емкое и удачное название — «Прекрасные и обреченные».
«Прекрасные и обреченные» были напечатаны впервые в «Метрополитен мэгэзин» в конце 1921 — начале 1922 г.
«Мой новый роман, — писал Фицджеральд в 1920 г., — называется «Полет ракеты» и рассказывает о жизни некоего Энтони Пэтча с 25 до 33 лет (1913 — 1921). Он один из тех многих людей, у которых есть вкусы и слабости художника, но у которых нет действенного творческого вдохновения. В романе рассказывается, как он и его красивая молодая жена терпят крушение на мелководье разгульного образа жизни».
Новое произведение Фицджеральда в чем-то перекликается с романом «По эту сторону рая», хотя в нем уже не содержалось такой «шокирующей новизны», как в первом романе.
В центре «Прекрасных и обреченных» образ очень богатого молодого человека — Энтони Пэтча, единственного наследника многочисленных миллионов своего деда.
Получив прекрасное образование (он окончил Гарвардский университет), Энтони несколько лет проводит в Европе, после возвращения хочет написать научную работу. Но это желание остается неосуществленным, и не потому, что у Энтони нет способностей или условий, но из-за его слабохарактерности, образа жизни, который не меняется и после женитьбы на Глории Гилберт.
Разгульная жизнь молодой пары приводит к тому, что старый миллионер лишает внука наследства, а именно деньги деда придавали Энтони уверенность в будущем.
Энтони, как и Глория, представляет себе жизнь как сладостное развлекательное путешествие, видя в таком иллюзорном счастье ее суть. Глория не возражает против прожигания жизни, напротив, это ее способ существования. Брак, по ее мнению, это лишь «блистательное представление», а мир — подмостки.
После смерти Адама Пэтча Энтони пытается через суд восстановить свои права на наследство. Разбирательство длится очень долго и параллельно происходит постепенный переход от упоения праздностью к глубокому нравственному падению четы Пэтчей. Но когда кажется, что жизнь уже беспросветна и безнадежна, неожиданно Энтони выигрывает дело и получает наследство.
Однако Фицджеральд дает ясно понять, что деньги и счастье — понятия далеко не равнозначные, что богатство никак не компенсирует попусту растраченной Энтони и Глорией жизни — ведь все, и даже их любовь, было иллюзорным, происходящим под знаком духовного бессилия.
Характеры Фицджеральда в преобладающем большинстве — нецельные, рефлексирующие, ломкие, а если они и имеют определенную линию поведения, внутренний стержень, то либо теряют эти качества по самым разным причинам, либо утрачивают нечто наиболее искреннее и естественное, что, собственно, и делало героя личностью.
Сила «Прекрасных и обреченных» — в тонких наблюдениях над видоизменениями чувства, внутренней динамикой интимного мира человека, в отходе писателя от традиционного описания светской жизни. Однако одновременно он и любуется своими «прекрасными» богатыми героями. Противоречие состояло а том, что Фицджеральд, чувствуя «недоверие» и даже ненависть к богачам, иногда работал «для денег, которые были нужны, чтобы вести такой же вольный образ жизни и сообщать будням известное изящество, как умели некоторые из них». Тем не менее Теодор Драйзер на парижской конференции Международной ассоциации писателей в защиту культуры говорил о «Прекрасных и обреченных> как о романе, в котором «разоблачаются бессмысленные прихоти богачей». И это действительно так. Но Фицджеральд изображает Энтони и Глорию то с сочувственным пониманием, то иронически. Такое двойственное отношение писателя к своим героям было особенно заметным из-за отсутствия в нем четко выраженной основной идеи, о чем после выхода романа в свет писал и он сам Джону Пилу Бишопу.
Поэтичность первой книги Фицджеральда сменилась в «Прекрасных и обреченных» усложненностью стиля, нагромождением образов и тропов, он вновь вводит в ткань романа неестественные и манерные «драматургические» диалоги. Авторская позиция не стала более четкой. Однако объективно Фицджеральд добился в «Прекрасных и обреченных» большего, чем в своей первой книге, хотя субъективно юношеская непосредственность первого романа может больше понравиться читателю, чем «искусственная ирония» второго. Писатель научился создавать более объемные и динамичные характеры, драматизировать события. Вместе с тем росло и расширялось его понимание окружающей жизни, ее духа и смысла. «Прекрасные и обреченные» — уже не только точный слепок с настроений времени. В книге предпринята попытка их проанализировать и вынести первый в американской литературе приговор абсолютному скепсису молодежи «века джаза».
Именно этот скепсис роднит Энтони Пэтча с Гордоном Стерретом из «Первого мая», хотя они совершенно полярны по общественному положению.
Скепсис становится и неотъемлемой чертой писателя Ричарда Карамела, поначалу серьезного, требовательного к себе художника, ставшего поставщиком «популярной» литературы после успеха своего первого же романа. Он полностью подпадает под власть денег и становится даже циничным, поскольку его уже не так интересует искусство, как материальная обеспеченность.
Фицджеральд пытается «объективно» сопоставить «прекрасные» и «обреченные» черты своих героев, но он еще не овладел принципом «двойного видения», способностью смотреть на них с противоположных точек зрения, столь полно проявившихся в «Великом Гэтсби», наверное, самом цельном произведении писателя. В «Прекрасных и обреченных» дело обстояло иначе.
Двойственность позиции Фицджеральда, к примеру, содержится даже в вариантах финала второго романа писателя. Концовка «Прекрасных и обреченных» первоначально звучала иронично и горько, однако Фицджеральд снял ее по настоянию Зельды. Поэтому советский литературовед М. О. Мендельсон, процитировав финальную реплику Энтони Пэтча («Крупные слезы появились в его глазах, и в голосе его была дрожь, когда он шептал, обращаясь к самому себе:
— Я доказал им, — говорил он. — Это была нелегкая борьба, но я не сдался и победил!»), совершенно справедливо полагает, что вряд ли «в конце романа скрыта ирония». Но при всех своих слабостях роман «Прекрасные и обреченные» стал важной вехой на пути Фицджеральда к «Великому Гэтсби».
В том же 1922 г., когда вышли «Прекрасные и обреченные», Фицджеральд опубликовал книгу новелл «Рассказы о веке джаза», где он впервые в своем творчестве обратился к фантастике.
Гротеск и гипербола, отступление от внешнего правдоподобия были сатирическим оружием писателя, поскольку укрупняли объект изображения, одновременно подчеркивая и отрицая его негативные стороны, выявляя социальное зло. Таким является один из наиболее известных рассказов Фицджеральда «Бриллиант величиной с отель «Риц» (в русском переводе — «Алмазная гора»).
Писатель резко вычленяет гротескную коллизию, для того чтобы объемней изобразить характерные для буржуазного общества процессы.
Восемнадцатилетний Джон Ангер, выходец из очень богатой семьи, учится в очень дорогом колледже с символическим названием — «святого Мидаса». В его родном городе Геенне (снова символическое название!) «простодушно и благочестиво преклонялись перед богатством с пеленок, всей душой чтили его, и не дай бог Джон нарушил бы эту заповедь умиления — родители отреклись бы от него, не стерпев такого кощунства». Деньги, богатство — единственная и «истинная» святыня, которой поклоняются как в Геенне, так и в колледже святого Мидаса. Богатство, ставшее богом для буржуазного общества, — сквозная тема рассказа Фицджеральда. Недаром «благочестивое» преклонение перед богатством — тринадцатая, а на деле первая и основная, заповедь для жителей Геенны и — шире — всей страны.
Джон Ангер в своем отношении к богатству весьма наивен. Он считает, что чем богаче человек, тем он лучше. И потому Джон испытывает восторг, когда его однокурсник Перси Вашингтон сообщает, что самый богатый человек в мире — Брэддок Вашингтон, его отец. Этот разговор происходит в поезде, несущем двух приятелей на Запад, к родным Перси, куда тот пригласил Джона на летние каникулы.
Восторг Джона превзошел все границы, когда он увидел воочию роскошь и великолепие, в котором жили Вашингтоны, и это заглушило в нем смутные опасения, вызванные тем, что ни на одной карте мира нет тех пяти квадратных миль, где обитает семья Вашингтонов, где находится самый большой в мире алмаз-гора величиной в кубическую милю, что в поместье Вашингтонов больше всего боятся каких бы то ни было связей с внешним миром, а самолеты, случайно пролетавшие над алмазной горой и примыкавшим к ней дворцом, попросту сбивают зенитками.
Воспитанного в традициях буржуазного индивидуализма Джона Ангера не очень-то трогает рабовладение, царящее в маленькой империи Брэддока Вашингтона. Ему нет дела и до двадцати пленных американских летчиков. Джон сквозь пальцы смотрит на убийства и беззакония до тех пор, пока все это не касается его самого.
Ангер весело проводит время, влюбляется в юную дочь Вашингтона Кисмину, и та отвечает ему взаимностью. Но приходит время отъезда и тут девушка случайно проговорилась, что отъезд не состоится, как не состоялся он и для других гостей — их попросту убивали: «Никого я не приглашала. Это все Жасмина (сестра Перси и Кисмины. — В. К.). Зато им здесь было очень хорошо. Она им делала такие чудные подарки под конец. И я, может, тоже буду приглашать — потом, вот стану не такая чувствительная. Какая разница, все равно ведь им когда-нибудь умирать, а нам уж, значит, никакой радости в жизни. Ты подумай, как бы здесь было скучно, если бы никто никогда не приезжал. Папа с мамой даже своих лучших друзей не пожалели».
Джон Ангер пытается спастись с помощью влюбленной в него Кисмины. Ему не удалось бы остаться в живых, если бы не воздушный налет на владения Вашингтонов. Молодые люди совершают побег, а по дороге Джон становится свидетелем символической сцены. Вашингтон пытается подкупить ни более ни менее, как самого господа бога, предлагая ему огромный алмаз, но «бог отказывается от сделки» и империи Брэддока Вашингтона вместе с самым большим в мире алмазом, олицетворявшим почти неограниченную власть его владельца, приходит конец.
Для создания сатирических образов «Алмазной горы» Фицджеральд прибегает ко многим символам и одним из наиболее знаменательных является рассказ Перси о жизни своего деда и отца. Брэддок Вашингтон оказался прямым потомком первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Но если главнокомандующий армии колонистов был не только виргинским спекулянтом земельными участками, но и выдающимся деятелем периода борьбы за независимость, то его потомки стали убийцами, не щадящими во имя наживы ни родственников, ни друзей. Так, введя фантастический элемент в повествование, Фицджеральд попытался символически показать неожиданный для многих американцев резкий переход от общества «равных возможностей» (по крайней мере, так считали американские пионеры) к обществу, в котором даже «убийства не омрачали счастливых времен роста и прогресса».
Целенаправленная символика «Алмазной горы» очевидна. Сконцентрированная в гротескной форме метафора буржуазного общества (все продается и все покупается!) проявляется прежде всего в сцене попытки подкупа миллиардером Вашингтоном господа бога.
Фантастика у Фицджеральда не становится целью, она всегда остается только средством, придающим рассказу черты гротеска и даже притчи. Фантастическое позволяет писателю в особом ракурсе воплотить те же идеи, что и в других произведениях, где этого элемента нет.
«Алмазная гора» написана, безусловно, не без влияния, пусть и весьма опосредованного, знаменитого рассказа Эдгара По «Падение дома Ашеров», хотя у Фицджеральда снижена высокая романтическая тональность, присущая одному из лучших произведений классика американской литературы.
Странное и таинственное присуще лучшим романам Фицджеральда. И хотя впоследствии писатель странное делает понятным, а мгла таинственности рассеивается, именно эти, присущие романтикам черты его поэтики оставляют неизгладимый след в произведении в целом. Несколько иначе обстоит дело в тех случаях, когда появляются собственно фантастические элементы, к примеру, в рассказе «Алмазная гора». Фицджеральд, как и По, начинает повествование с реальных картин, условность изображения выражается лишь в названиях «Геенна», «колледж святого Мидаса» и т. д., во всем остальном — это вполне достоверная американская действительность XX в. Но читатель вскоре погружается в атмосферу необычного, которая, тем не менее, уже выглядит вполне правдоподобной, тем более что Фицджеральд, говоря о реально существующих тенденциях в американской общественной жизни, прибегает к вымышленным названиям родного города Джона Ангера и колледжа, в котором он учился, а перейдя к описанию вымышленного поместья миллиардера Вашингтона, называет реальное место его расположения — Скалистые горы, штат Монтана. Этот прием роднит новеллу Фицджеральда с некоторыми рассказами Эдгара По, например, «Не закладывай черту своей головы». Если сопоставлять «Алмазную гору» с «Падением дома Ашеров», то здесь мы наблюдаем, хотя и более непосредственные, но и более сложные связи.
Одной из важных линий этих рассказов является повествование о гибели старинных аристократических родов. Но если рассказ По, точнее, вставное стихотворение о властителе края и его замке, по словам самого писателя, символизирует «разум, преследуемый призраками», то у Фицджеральда Вашингтоны, эти зловещие призраки буржуазной действительности, преследуют разум — поэта, архитектора, учителя.
Оба произведения повествуют и о действительных коллизиях в американском обществе в соответствующие исторические периоды.
У Эдгара По образ замка воплощает то «духовно-символическое», что влияет на основы существования героев. У Фицджеральда же прослеживается влияние материально-символического образа дворца Вашингтона на внутренний мир героев. Но при этом оба писателя демонстрируют синтез романтического и аналитического подхода к действительности.
Советский ученый А. Н. Николюкин писал о том, что тема рассказа «Падение дома Ашеров» обращена не только к прошлому, но и к трагедии современного По американского общества, катаклизмы и противоречивый характер развития которого достигли в те годы особой остроты». То же самое можно сказать и об «Алмазной горе» Фицджеральда, и времени, когда он создавал свои произведения.
Но существует и принципиальное различие между Фнцджеральдом и По. Несмотря на общее романтическое раздвоение между мечтой и действительностью, иллюзией и реальностью, необыкновенное у Фицджеральда на поверку является обыкновенным, только поставленным в такие условия, где оно кажется чуть ли не аномалией.
Иное наблюдаем у Эдгара По. И в «таинственных», и в «аналитических» рассказах тайна часто так и остается тайной. Но в то же время этим произведениям было присуще и критическое начало, так как «крупнейшие американские писатели-романтики, к которым принадлежит и По, были столь же тесно связаны с жизнью своей эпохи, как затем писатели-реалисты, хотя выражение этих связей носило у тех и других различный характер».
Прошлый век для литературы Соединенных Штатов — период расцвета литературы романтизма, заметно отличающейся от европейской. Различие это обусловлено особенностями развития Америки. За победой в войне за независимость не последовало периода реакции, как после Великой французской революции и, в особенности, после Реставрации Бурбонов. В Америке, естественно, не было и борьбы между дворянством и буржуазией. Развитие капитализма носило особый характер, так же как и классовое расслоение общества, поскольку «два обстоятельства долго мешали неизбежным следствиям капиталистической системы проявиться в Америке во всем своем блеске. Это — возможность легко и дешево приобретать в собственность землю и прилив иммигрантов».
По этим причинам, а также под влиянием французского просветительства сложились первые и, как показали дальнейшие события, утопические представления о стране, свободной от монархической власти, о демократическом обществе «равных возможностей», об исключительности Нового Света.
«Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим создателем прирожденными и не отчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых», — говорилось в Декларации Независимости.
Но истины на поверку оказались далеко не абсолютными, права и отчуждались и попирались, а сентиментальная романтизация отдельной мужественной, энергичной личности обернулась в воспевание индивидуалистической морали.
Хотя, казалось, устремления были высокими и достойными, Новый свет был избавлен от голода и кризисов, перед переселенцами простирались огромные просторы плодородных земель, но время от времени на безоблачном небе американского бытия появлялись тучи, нарушавшие в общем-то спокойное течение жизни. Спекуляции землей и идеалами американской революции, начало политики геноцида по отношению к индейцам, зарождение конфликтов социальных, растущие противоречия между трудом и капиталом не могли не влиять на все сферы американской действительности.
Замедленное развитие капитализма в условиях США того времени было равносильно подготовке «условий для еще более быстрого и еще более широкого его развития». Так вскоре и случилось. Огромная армия пионеров ринулась на покорение дикого Запада после победы Севера над Югом, победы более развитого в промышленном отношении региона. Это способствовало стремительному и неравномерному росту национальной экономики, резкой социальной дифференциации, наступлению «позолоченного века», что не могло не сказаться, иногда в весьма противоречивой и причудливой форме, на духовной жизни общества, представлявшей собой некий конгломерат нравственных установок, философских и политических идей и религий. Все это в комплексе оказало решающее влияние на развитие американского романтизма. Ускоренному развитию капитализма в Америке сопутствовало и ускоренное созревание его противоречий.
Капитализм в Соединенных Штатах «в некотором смысле проскочил, миновав классическую ясную стадию, и стал вполне зрелым лишь в эпоху империализма. Поэтому кривые зеркала отчуждения тут рефлектировали мир куда более искаженный, чем в Англии или во Франции. И, может быть, вопреки отставанию, здесь еще раньше, чем там.
Эта атмосфера — один из источников американской романтической специфики: того сложного сплетения правды и фантазии, прозрения и заблуждения, трезвости и бурления страстей, прозаизма и гигантомании, ясности и туманности».
Еще Фенимор Купер, в противовес наступлению «новой цивилизации», в определенной мере идеализировал единство индейцев с природой, изображал их духовные и физические качества как нечто имманентное и гармоническое, а в образе Натти Бампо воспел охотника, оставившего общество и ведущего нелегкую жизнь одинокого «естественного человека.
Сопоставление нетронутой природы и цивилизации в разных ракурсах станет одним из важнейших для многих поколений американских писателей, хотя параллель, которую некоторые американские критики и литературоведы проводят между героями Купера и Фицджеральда, нам представляется искусственной и не совсем состоятельной. Одиночество было присуще почти всем героям американских писателей-романтиков, да и реалистам XX в., поэтому опираться лишь на эту черту, пытаясь проследить типологию героя, нельзя.
Поэтическая проза Фицджеральда, ее лиризм, интерес прежде всего к внутреннему миру человека, а не к занимательности внешнего сюжета могут быть сопоставлены с прозой Купера в основном от противного. Трудно отыскать и прямую связь между творчеством Фицджеральда и философским эпосом Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит». Впрочем, влияние американских романтиков XIX в. на Фицджеральда было весьма опосредованным.
А. Н. Горбунов совершенно правильно заметил, что между книгами Фицджеральда и прозой его американских предшественников не всегда можно (или даже нужно) устанавливать прямые параллели. Творчество автора «Великого Гэтсби» всегда было в достаточной мере своеобразно. Любовь к западноевропейским и русским художникам слова писатель пронес сквозь всю жизнь, постоянно черпая вдохновение в их книгах. Характерно, что, размышляя об искусстве романтиков, Фицджеральд обычно ссылается не на опыт своих соотечественников, а на авторитет Китса и Конрада, и если он говорил с гордостью о достоинствах американских реалистов, то не менее часто на страницах его писем фигурировали имена Флобера, Бальзака и Достоевского. Однако в то же время Горбунов считает возможным сопоставить лирический строй прозы Фицджеральда с романами и рассказами Натаниеля Готорна. Автора «Алой буквы», как и Фицджеральда, волновали морально-этические, нравственные проблемы, которые он пытался решать в психологическом ключе. Другой чертой, роднящей творчество Готорна и Фицджеральда, указывает Горбунов, является то, что морально-этическая идея не только становится органическим элементом повествования, но и утрачивает однозначность, превращается в романтический символ, выходящий за рамки единичного и случайного и приоткрывающий общечеловеческий смысл.
Истоки своеобразия творчества Фицджеральда следует искать не только в том оригинальном, что присуще лишь ему, но и в поэтике и эстетике европейских и, прежде всего, американских романтиков, оказавших значительное влияние и на таких прозаиков США XX в., как Хемингуэй, Андерсон, Фолкнер, Уайлдер, Вулф, не исключая, конечно, и других факторов, среди которых едва ли не в первую очередь следует назвать традицию русской классической литературы, и прежде всего Достоевского, Толстого и Гоголя.
Своеобразие влияния романтической эстетики на каждого из этих писателей очевидно, поэтому, хотя на концепции человека, на творческой манере каждого из этих писателей сказалась традиция романтизма, параболичность Торнтона Уайлдера резко отличается от параболичности творца Иокнапатофы, лирико-эмоциональная проза Фицджеральда — от лиризма Хемингуэя, а эпичность саг Вулфа от лишь наметившейся тенденции к эпическому в «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона.
Но в большинстве произведений этих писателей присутствует особое неприятие капиталистической действительности, протест против бездуховности, стандартизации человека, буржуазной морали и образа жизни.
Так, Шервуд Андерсон обратил самое пристальное внимание на затхлость, будничность, однообразие жизни американской провинции. Но эта жизнь у Андерсона трагична той внутренней безысходностью, которая бывает глубже и страшнее явно выраженного внешнего трагизма.
Влияние Шервуда Андерсона на послевоенную американскую прозу было многоаспектным. Оно сказалось в одних случаях на глубоком и тонком психологизме, в других — на принципах жанрообразования, в третьих — на повышенном внимании к внутреннему миру героя, в четвертые — на его типе, в пятых — на стиле. Андерсон не столь сконцентрирован на действиях личности, как на ее психологических движениях, колебаниях, реакциях на действительность. Хотя бунт его героев зиждется лишь на эпатаже, доходящем до гротескной эксцентрики, смутно они чувствуют тоску по Америке — демократической и гуманной, по другой жизни. Хотя рефлексирующие герои Андерсона не были ни борцами, ни даже людьми действия, новое слово о новых отношениях к прежним ценностям все же было произнесено.
Локализация места действия у Андерсона, его вымышленный Уайнсбург в штате Огайо явился предшественником фолкнеровского Джефферсона, или же Алтамонта Томаса Вулфа, твеновская, по крайней мере в американской литературе, традиция отражения мира глазами наивного повествователя, развитая Андерсоном, сказалась и на произведениях Хемингуэя, Фицджеральда, Фолкнера, Вулфа, Стейнбека.
Своеобразное художественное видение мира Шервудом Андерсоном и, в первую очередь, его сборник «Уайнсбург, Огайо» (1919), представляющий собой интересный феномен взаимопроникновения новеллистической и романной форм, оказал безусловное жанрообразующее воздействие на книгу Хемингуэя «В наше время» (1925).
В «Празднике, который всегда с тобой» (1964) Хемингуэй заметил, что «рассказы Андерсона слишком хороши, чтобы служить темой для приятной беседы» в салоне Гертруды Стайн. Синклер Льюис считал автора «Уайнсбург, Огайо» великим писателем. Очень высоко ценил Андерсона и Френсис Скотт Фицджеральд, хотя концепция «бессознательного искусства», столь привлекательная для Андерсона, была ему чужда. Но это касалось лишь теоретических взглядов, а творчество Андерсона было близко Фицджеральду, назвавшему своего старшего современника в 1925 г. «одним из лучших …англоязычных писателей на сегодняшний день».
Проникновение новеллистической формы в романную у Фицджеральда было опосредованным, отличающимся от непосредственного взаимодействия этих форм у Андерсона и Хемингуэя. Он считал себя преимущественно романистом, некоторые рассказы послужили для писателя материалом для романов, а другие тематически и идейно предваряли его произведения крупной формы. Как в свое время рассказы «Волосы Вероники» (1920) и «Первое мая» (1920) были своеобразными набросками, этюдами к «Прекрасным и обреченным», так «Зимние мечты» (1922) и, в особенности, «Самое разумное» (1924) и «Отпущение грехов» (1924) предваряли один из лучших романов не только самого писателя, но и американской литературы XX в. — «Великий Гэтсби».
Герой «Отпущения грехов» — Рудольф Миллер — во многом похож на Эмори Блейна («По эту сторону рая»), только его мечты детские — ведь ему только одиннадцать лет. Рудольф придумывает себе новое имя, помогающее ему переноситься в мир мечтаний и иллюзий, в «Великом Гэтсби» герой меняет имя, отрекаясь от своего прошлого, от времен бедности и унижений.
В «Самом разумном» Фицджеральд также моделирует ситуацию, встречавшуюся ранее в его первом романе и вновь перекликающуюся с «Великим Гэтсби». Правда, герой этого рассказа — Джордж О'Келли — в конце концов вернул свою возлюбленную, но это произошло случайно, благодаря стечению обстоятельств, только потому, что он разбогател. Однако нечто неуловимое он потерял навсегда: «Но, целуя ее, он на миг осознал, что той весны ему не вернуть, сколько не ищи, хоть целую вечность. И пусть теперь он имеет право прижать ее к себе с такой силой, что мускулы вздуваются на руках, — она его желанная и драгоценная добыча, он ее завоевал, — но не будет неуловимого шепота в сумерках, шепота в ночи».
Подобная ситуация, хоть и с иными психологическими нюансами повторяется в «Великом Гэтсби».
В начале 20-х годов Париж становится своеобразной «Меккой» для молодых интеллигентов, съехавшихся со всего света в «столицу мировой культуры».
В знаменитом кафе «Ротонда» и у Гертруды Стайн собирались художники Пикассо, Ривера, Модильяни, Шагал, Миро, Леже, Брак, Матисс; писатели — Эзра Паунд, Форд Меддокс Форд, Джойс, Мак-Лиш, Элиот, Каммингс, Андерсон, Хемингуэй и Фицджеральд. Именно в Париже Эрнест Хемингуэй работал над «Фиестой», а также над рассказами из сборников «В наше время» и «Мужчины без женщин».
Здесь же Скотт Фицджеральд написал большую часть романа «Великий Гэтсби».
Осенью 1924 г. Фицджеральд отправляет главному редактору издательства «Скрибнерз» Максуэллу Перкинсу первый вариант романа «Великий Гэтсби». Перкинс был не совсем обычным редактором. В нем сочетались высокая образованность и тонкий вкус, требовательность и редакторский талант.
Иван Кашкин в очерке «Хемингуэй» пишет: «Сам так и не став писателем, на что он имел все данные, Перкинс получил шестьдесят восемь авторских книг с признанием того, что все эти шестьдесят восемь авторов поставлены им на дорогу в литературу… Фицджеральда он просто заставлял работать».
Писатель уважительно относился к советам своего редактора. Так случилось и с романом «Великий Гэтсби», над корректурой которого Фицджеральд с помощью Перкинса работал около четырех месяцев.
Весной 1925 г. книга вышла в свет. Она не имела «кассового» успеха, да и очень немногие критики высоко оценили роман. От Фицджеральда ждали иного: очередного произведения о «джазовом веке» или же о «прекрасной» и «обреченной» молодежи, живущей по «эту сторону рая».
Первоначально Фицджеральд хотел назвать свой роман «Тримальхион из Уэст-Эгга», но затем по совету Перкинса остановился на многозначном метафорическом названии — «Великий Гэтсби».
В мировой литературе немало подобных образов — человек из низов, борющийся за место под солнцем, плебей-выскочка, пытающийся сделать или же сделавший карьеру. Еще почти две тысячи лет назад выдающийся римлянин Гай Петроний Арбитр в своем «Сатириконе» создал такого героя — вольноотпущенника Тримальхиона, ставшего богачом. Можно привести еще немало примеров подобного типа героя из истории литературы, особенно XIX — XX вв.: Жюльен Сорель, Растиньяк, Люсьен Шардон, Мартин Идеи, Клайд Гриффитс, Френк Каупервуд и др. Существует также немало различных причин, заставивших писателя поставить в центре романа именно такой персонаж, часто выражавший опосредованно определенную идею. Так, Д. В. Затонский отметил, что «Стендаль в «Красном и Черном» как бы смоделировал историческую действительность в образе главного героя.
Жюльену Сорелю было лишь восемь лет, когда пала Империя. «На его долю не досталось ничего от ее благ, на его голову не лег ни один луч ее славы. Но его ум и чувство питались легендами о великом полководце, повелевающем миром, — гиперболическими, расцвеченными легендами, сверкавшими в ночи безвременья. Годы, когда царило его божество, были годами богатейших возможностей для молодых плебеев, наделенных талантами, смелостью, дерзостью. Он мог бы стать генералом, графом, сенатором: то была эра побед, эра величия».
Если Стендаль в «Красном и Черном» моделирует историческую действительность, то Фицджеральд в «Великом Гэтсби» моделирует не только и не столько историческую действительность, но в первую очередь ставший чуть ли не национальной «традицией» миф об «американской мечте».
«Американская мечта» трагична, поскольку ее проблемы неразрешимы. Отсюда и трагический характер наиболее значительных произведений Скотта Фицджеральда.
Во всех романах — и «Великий Гэтсби», и «Ночь нежна», и «Последний магнат» Фицджеральд развенчивает этот столь популярный социально-этический миф о преуспевании всех и каждого, о легкости «пути наверх» в американском буржуазном обществе. Главные его герои — личности незаурядные, но все они не бездушны, не жестоки, и не безжалостны, т. е. лишены качеств, необходимых для достижения пресловутого «успеха». Поэтому им приходится очень тяжело на любой стадии кажущегося осуществления «мечты». Идеальный образ «американской мечты» тускнеет, а затем искажается. Искажается и представление о личности в свете национального идеала. Жажда успеха, социальные связи владеют человеком, но он, подобно «великому» Гэтсби, верит в иллюзии до конца. Если же личность стремится к разрыву со своими старыми связями, то, как правило, достигнув этого, оказывается в вакууме, гибельном для человека творческого, незаурядного, такого, как Дик Дайвер («Ночь нежна»). Наконец существует и тип личности, достигшей жизненного успеха в соответствии с американскими буржуазными нормами, с «американской мечтой». Но личности творческой этого мало и на первый план выходит разрыв между мечтой и действительностью, а ликвидировать этот разрыв оказывается невозможным. Приходится выбирать, а потом оказывается, что выхода нет, как не было его у Монро Стара — «последнего магната».
Американская мечта в прошлом и настоящем не могла не стать предметом пристального интереса американских писателей. «С самого начала американская беллетристика, в основном, жила влечением к Мечте — и чувством, что мечту предали, — пишет известный английский писатель и литературовед Уолтер Аллен. — На этом держатся романы Купера о Натти Бампо, отсюда идет горечь и ярость многих американских «радикальных романов» — от Френка Норриса и Драйзера до Нормана Мейлера. Творчество этих писателей проникнуто критическим отношением: к предмету изображения (отдельный американец или какая-нибудь сторона американской жизни) они подходят с заранее составленным представлением о том, какой должна быть жизнь в Америке, и, противопоставляя идеал действительности, вершат суд над ней». Скотт Фицджеральд также «вершит суд» над «американской мечтой», над буржуазной Америкой в «Великом Гэтсби».
Повествование ведется от лица тридцатилетнего Ника Каррауэя — выходца из средних слоев, отправившегося весной 1922 г. в Нью-Йорк изучать кредитное дело.
Каррауэй, являющийся не только рассказчиком, но и комментатором событий, описываемых в романе, снял небольшой домик в Уэст-Эгге — одном из многочисленных пригородов Нью-Йорка. Нику стало известно, что его ближайшим соседом является некто по имени Гэтсби. Вскоре Каррауэй, несмотря на атмосферу таинственности, окружающую Гэтсби (никто не знает ни характера происхождения богатства Гэтсби, ни рода его занятий), узнает, что привело того в Нью-Йорк.
Нику это удается во многом благодаря «привычке к сдержанности в суждениях», которая была для него «ключом к самым сложным натурам». Благодаря этой черте, а также трезвой рассудительности Каррауэй узнал и о мечте Гэтсби, не угасающей ни на секунду на протяжении пяти лет.
Джеймс Гетц вырос в бедной фермерской семье. Наделенный незаурядными способностями и богатой фантазией, он живет в двух мирах — реальном и придуманном, причем вымышленный мир занимает в жизни Гэтсби превалирующее положение. «Самые дерзкие и нелепые фантазии одолевали его, когда он ложился в постель. Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитывавшем голубой влагой смятую одежду на полу, развертывался перед ним ослепительно яркий мир. Каждую ночь его воображение ткало все новые и новые узоры, пока сон не брал его в свои опустошающие объятия, посреди какой-нибудь особо увлекательной мечты. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной; они исподволь внушали веру в нереальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках феи».
Гэтсби поначалу стремился получить образование и даже работал дворником, чтобы внести плату за обучение в Лютеранском колледже святого Олафа в Южной Миннесоте, но проучился там всего две недели.
И тут он встретился «воочию» с одной из своих «фантазий» — с белой яхтой Дэна Коди. Коди был не просто миллионером, а одним из тех «необузданных пионеров», которые в конце прошлого века вновь принесли на восточное побережье Америки буйную удаль салунов… западной границы».
Но не только удаль приносили пионеры, первопроходцы, добытчики на американский Восток. И не только дух погони за наживой. Жажда обогащения соседствовала в них и с жаждой познать романтику тяжелых походов, долгих перегонов, истинно мужского труда. В горниле золотой лихорадки рождались и честные смелые люди, подобные знаменитому Мэйлмюту Киду Джека Лондона.
Так начинал, по всей вероятности, Дэн Коди. Так пытался начинать и Джей Гэтсби, в известной степени ученик пятидесятилетнего миллионера. Но продолжали они тоже подобно герою Джека Лондона. И на этот раз не Мэйлмюту Киду, а Эламу Харнишу — Время-не-ждет, покинувшему Север для крупной денежной игры в Сан-Франциско и других больших городах Америки.
Коди, вернувшись с Севера, спекулировал монтанской нефтью — на чем заработал несколько миллионов, а вскоре и Джей Гэтсби пошел по его стопам.
Годы, проведенные с Коди, не прошли впустую: «Отвлеченная схема Джея Гэтсби облеклась в плоть и кровь и стала человеком». Придуманный «Джей Гэтсби» стал вполне реальным.
К нему пришло решение сделать военную карьеру и, уже будучи в армии, Гэтсби познакомился с Дэзи Фэй — девушкой из высшего общества и «обрек себя на вечное служение святыне». Бедность, в которой он не нашел мужества признаться Дэзи, делает невозможной их свадьбу, а вскоре молодой лейтенант отправляется на войну в Европу. За героизм, проявленный в Арденнах, Гэтсби был произведен в майоры и награжден множеством орденов, но он возвращается в США без гроша в кармане и узнает, что Дэзи, не дождавшись его с войны, вышла замуж за миллионера Тома Бьюкенена.
Второй раз в своей жизни Гэтсби с горечью осознает могущество денег (Том подарил невесте ко дню свадьбы колье, ценой в 350 тысяч долларов — в то время как Гэтсби нищенствует) до тех пор, пока не встречает предприимчивого дельца-афериста Мейера Вулфшима. С помощью и под руководством Вулфшима Гэтсби создает себе огромное состояние. Но если с детства Гэтсби мечтал о богатстве «отвлеченно», материальное благополучие ассоциировалось у него со счастьем, то сейчас деньги нужны ему лишь для того, чтобы вернуть любимую женщину.
«Он ждал пять лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мошкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь «зайти на часок» в чужой дом» и увидеть Дэзи.
Гэтсби во второй раз встречается с Дэзи и, казалось бы, ему удается ее вернуть, — в семейной жизни с Томом Бьюкененом она не обрела счастья. Том ей изменяет с Миртл Уилсон — женой небогатого владельца гаража. Возвращаясь из Нью-Йорка на машине Гэтсби, Дэзи сбивает Миртл Уилсон и та умирает. Владелец гаража узнает от Бьюкенена имя владельца машины, а чуть позднее Каррауэй узнает, что за рулем в момент катастрофы была Дэзи. Уилсон убивает Гэтсби, а затем и самого себя.
Но эта «детективная» линия не стала для Фицджеральда основной, хотя после выхода в свет «Великого Гэтсби», некоторые критики решили, что именно она преобладает в романе, а некоторые, несмотря на общую положительную оценку произведения (Г.-Л. Менкен), усмотрели в его сюжете «не более чем анекдот».
Интересно, что нечто подобное писали в свое время о замечательном художнике Александре Грине, но и у него — как и у Фицджеральда в «Великом Гэтсби» — «авантюрный сюжет… — только скорлупа для более глубокого содержания».
За пятнадцать лет до выхода в свет «Великого Гэтсби», Грин создал удивительный рассказ «Колония Ланфиер», во многом тематически и идейно перекликающийся с романом американского писателя. Рассказ Горна — героя «Колонии Ланфиер» о своем друге, а на самом деле о себе самом также во многом напоминает «Гэтсби»: «Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это осталось невыясненным… Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога. Прошли дни, когда перед ней был поставлен выбор — идти рука об руку с моим другом, все имущество которого заключается в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые неожиданные желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.
Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой. Но и он был из породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними в том, что одна хотела все для себя, а другой — все для нее… Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было — деньги».
Далее Горн рассказывает, что через месяц его друг застрелился. Это лишь кажущаяся ложь. Жалкое существование незаурядной личности в колонии Ланфиер мало чем отличалось от смерти. Мало чем отличалось от гражданской смерти и существование Гэтсби после возвращения из армии, когда он влачил полуголодное существование, а «кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный», был утрачен навсегда. Героем Александра Грина, случайно нашедшего золотые россыпи, обуревает «чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный револьвер». После напряжения всех духовных и физических сил, «все показалось ему невероятно прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного вернуть женщину».
Примерно те же чувства испытал Гэтсби, осознав, что он, пусть и не честным путем, может разбогатеть, а это, по его мнению, обязательно вернет ему Дэзи.
Как видим, авантюрная фабула и романтическое мировосприятие у Грина и у Фицджеральда никак не перечеркивают социальной значимости их произведений.
Отвечая на незаслуженные нападки, Фицджеральд писал Эдмунду Уилсону: «Избегая обидных сравнений первого класса с третьим, могу сказать: если мой роман — анекдот, то и «Братья Карамазовы» — тоже. И их можно было бы, с известной точки зрения, низвести до детектива… Ни один обозреватель, даже из самых восторженные, не имел представления, о чем эта книга».
А действительно, о чем? Ведь «Гэтсби» — не камерное, как может показаться на первый взгляд, а остро социальное произведение, повествующее о бездушии, прячущемся под маской респектабельности, о жестокости «власть имущих», и о ложных идеалах, насаждаемых антигуманистической буржуазной моралью.
Г.-Л. Менкен заметил лежавшую, казалось бы, на поверхности «тривиальность» сюжета «Гэтсби» (бедный юноша влюбляется в богатую девушку и т. д.), но, используя даже такой сюжетный ход, писатель показывает пагубность «идеи обогащения», витающую над всей нацией, в силу крайнего индивидуализма, нравственного распада личности и антагонизма между человеком и обществом.
Одной из важнейших особенностей большой части прозы XX в. является ее метафоричность, образная ассоциативность, внутренний подтекст. Даже сами названия некоторых произведений многозначны и метафоричны — например, у Томаса Манна, Михаила Булгакова, Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара, Марио Варгаса Льосы. То же самое можно сказать о названии романа Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», воплотившем двойственное отношение автора к герою.
Образ Гэтсби складывается из совокупности разных точек зрения. Фицджеральдом, от лица Ника Каррауэя, чуть ли не с первой страницы романа дана своеобразная первоначальная «установка». Рассказчик сразу же отмечает двойственность Гэтсби, с одной стороны, казалось бы, воплощавшего все, что Каррауэй, а вместе с ним и автор «презирал и презирает», а с другой — в Гэтсби было «нечто великолепное», «повышенная чувствительность», «способность к мгновенному отклику», «романтический запал», «редкостный дар надежды».
Такая первичная характеристика не только свидетельствует о противоречии героя, но и накладывает отпечаток на дальнейшее восприятие, на оценки, на точки зрения. Фицджеральд окружает его поначалу загадочным ореолом. Но «расплывчатость» заключена в самом характере Гэтсби. Он «расплывчат» по сути, потому что в душе Гэтсби разворачивается конфликт двух несовместимых устремлений, двух совершенно разнородных начал. Одно из этих начал — «наивность», простота сердца, негаснущий отблеск «зеленого огонька», звезды «неимоверного будущего счастья», в которое Гэтсби верит всей душой; типичные черты взращенного американской историей (а в еще большей степени — американской социальной мифологией) «нового Адама». Другое же — трезвый ум привыкшего к небезопасной, но прибыльной игре воротилы-бутлеггера, который и в счастливейший для себя день, когда Дэзи переступает порог его дома, раздает по телефону указания филиалам своей «фирмы». На одном полюсе — мечтательность, на другом — практицизм и неразборчивость в средствах, без чего не было бы ни загородного особняка, ни миллионов. На одном полюсе — подлинная душевная широта и чуть ли не наивная чистота сердца, на другом — поклонение Богатству, Успеху, Возможностям, порабощенность теми самыми фетишами, которые самому Гэтсби так ненавистны в Томе Бьюкенене и людях его круга. Главным героям романов Фицджеральда сопутствуют благоприятные обстоятельства. Но всех их ожидает на первый взгляд случайный, неожиданный, а на деле логический крах. Они не могут приспособиться, не обладают достаточной духовной мимикрией, чтобы спокойно, в довольстве существовать по законам, чуждым лучшему в них. Они не стоики, как хемингуэевские герои, но их роднит неприкаянность, «потерянность», они не столь непоколебимы, не имеют такой силы воли, как персонажи Фолкнера, но и в этом случае сходство существует и определяется в некоторых случаях всепоглощающей страстью, а в других — попыткой сохранить себя как личность, отстоять свое человеческое достоинство, пусть иногда они и идут к цели не слишком достойным путем.
В своих романах Фицджеральд часто сохраняет свойственную романтикам полярность образов: Гэтсби — Бьюкенен, Дайвер — Барбан, даже, до известной степени, Стар — Брейди, но очень редко, за исключением, пожалуй, лишь образов — символов конкретного зла, рисует героя одной краской. Как правило, они сочетают в себе разные, а иногда и противоположные качества, поэтому в каждом из них идет сложная внутренняя борьба между слабостью и силой, ранимостью и жестокостью, неразборчивостью в средствах и деликатностью. Такие герои Фицджеральда отмечены особого рода духовным неблагополучием, «внутренней» полярностью. Буржуазный образ жизни, не исключая достижения материального благосостояния, не способен удовлетворить их духовные потребности, ведь «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила». А современное Фицджеральду американское общество характерно своей бездуховностью.
Американская система социальных стимулов действовала разлагающе на личность, вырабатывая в ней не жажду честного труда, а служение идее «достижения успеха» с ее меркантилизмом и бездуховностью, индивидуализмом мышления и действий. Искаженная и преображенная «американская мечта» движет помыслами столь заурядного американца, как Клайд Гриффитс Теодора Драйзера, казалось бы, столь отличающегося от «великого» Гэтсби. Но у них есть и общее: приверженность той же идее успеха в соответствии с рецептами «американской мечты». «Американская трагедия», постигшая героев Драйзера и Фицджеральда, имеет одни и те же корни, поскольку ими руководит «мечта» о гармонии бытия в стране идеальных социальных отношений. Такое отношение к жизни формируется в них с детства и избежать этого влияния невозможно. «Нам даже не дано было возможности принять или отвергнуть мечту, — писал в эссе «О частной жизни» (1955) Уильям Фолкнер, — ибо мечта уже обладала и владела нами с момента рождения».
Теодор Драйзер создает свою «Американскую трагедию» (1925) на широком социальном фоне. Иное наблюдаем у Фицджеральда. Если на Драйзера оказал некоторое влияние натурализм, то на Фицджеральда — романтизм, сталкивающий идеальное с реальным, видимость с сущностью, мечту с действительностью. И Фицджеральд в этом смысле был далеко не одинокой фигурой в американской литературе XX в.
20 — 30-е годы нашего столетия, указывает советская исследовательница американской литературы Т. Н. Денисова, — «это время гибели моральных устоев, официально пропагандированных буржуазией, которые до сих пор казались нерушимыми и вековечными. 20 — 30-е — это время невиданного кризиса и депрессии в США. 20 — 30-е годы — это время усиления интереса к романтизму и зарождения романтической линии в творчестве многих писателей-реалистов Америки XX столетия».
Представления определенной части литературоведения США в 20 — 30-е годы о том, что Фицджеральд не более чем бытописатель блестящей светской жизни, а Драйзер — скучный хроникер, стоящий на позициях натурализма, бытуют и в наши дни. Действительно, если говорить о частных моментах в творчестве этих писателей, то основания упомянуть о тяге Фицджеральда к «очень богатым людям», или же о том, что «даже в «Американской трагедии» временами сквозят натуралистические тенденции», были. Но именно упомянуть, поставив в то же время главный акцент на определяющем реалистическом начале как у Драйзера, так и у Фицджеральда. Несмотря на различия между этими двумя большими писателями, они оба в той или иной степени видели прямую зависимость человека в буржуазном обществе от законов, царящих в нем.
Драйзер и Фицджеральд пишут, казалось бы, об одном и том же — о невозможности осуществления «мечты». У Драйзера преобладает социальный аспект проблемы, а у Фицджеральда морально-этический. Однако Драйзер категорически отрицает постулат «американской мечты» о том, что достичь богатства честным путем может каждый член буржуазного общества, а Фицджеральд демонстрирует лживость другого аспекта той же «мечты» — богатства и счастья как взаимно связанных компонентов, как двуединства. Деиндивидуализация Гэтсби как личности не успела произойти из-за смерти героя, но это случилось бы непременно, так как рано или поздно он должен был бы взглянуть на свою «мечту» и на миропорядок уже не своими глазами, а хотя бы глазами Ника Каррауэя. В свою очередь, даже если бы Клайду Гриффитсу удалось скрыть свое преступление от правосудия, жениться на Сондре, стать богатым человеком, то это не принесло бы ему счастья, так же как не принесла бы счастья Гэтсби женитьба на Дэзи. Слишком разительной была бы разница между Дэзи-мечтой и реальной женщиной, слишком велик был бы разрыв между иллюзией и действительностью.
Гэтсби создал свой идеал, хотя «живая Дэзи в чем-то не дотянула до Дэзи его мечтаний, — и дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им образа. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете. Он творил его с подлинной страстью художника, все время что-то к нему прибавляя, украшая его каждым перышком, попадавшимся под руку. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии».
Тем горше было разочарование, постигшее Гэтсби. Он слишком много отдал «служению святыне» и поэтому требовал от Дэзи лишь немногим меньше. А она «не дотягивала» не только до Дэзи-мечты, но и до той Дэзи, которую знал Гэтсби пять лет назад.
Она убивает Гэтсби одним словом «тоже» задолго до пули Уилсона: «Было время, когда я любила его, но тебя я тоже любила».
Гэтсби потрясен. Более того, он сражен: «Гэтсби широко раскрыл глаза — потом закрыл их совсем.
— Меня ты тоже любила, — повторил он… Казалось, каждое из этих слов режет Гэтсби, как ножом».
Речевая характеристика персонажей в «Великом Гэтсби» помогает полнее раскрыть образ. Так, вульгарная, скудоумная и спесивая любовница Бьюкенена — Миртл Уилсон говорит своей сестре о том, что за деньги, заплаченные педикюрше, она могла бы удалить «аппендицит». Достаточно вспомнить еще одну фразу Миртл Уилсон, чтобы ее образ стал вполне осязаемым: «Нужно мне составить список всех дел, которые я должна сделать завтра. Массаж, потом парикмахер, потом еще надо купить ошейник для собачки и такую маленькую пепельницу с пружинкой, они мне ужасно нравятся, и венок с черным шелковым бантом мамочке на могилку, из таких цветов, что все лето не вянут. Непременно нужно все это записать, чтобы я ничего не забыла».
Совершенно ясно, что Миртл не часто ходит на могилу матери, да и купить, скорее всего, она забудет не пепельницу и не ошейник, а именно венок.
Любопытны сравнительные характеристики даже не речи, а голоса Дэзи. Когда она, после долгой разлуки, встретила Гэтсби, Каррауэю чудилась «бессмертная песнь … в этом голосе».
Но, впоследствии, обретя недоверие к миру Бьюкененов, Ник прозревает, а Гэтсби, несмотря на свою любовь, а, может, и благодаря ей, улавливает особые ноты в голосе Дэзи: «У Дэзи нескромный голос, — заметил я (Каррауэй. — В. К.).
— В нем звенит… — я запнулся.
— В нем звенят деньги, — неожиданно сказал он.
— Ну конечно же. Как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе — вот что так пленяло в бесконечных переливах, звон металла, победная песнь кимвал».
И недаром Дэзи рыдает, плененная богатством дома Гэтсби. Дэзи уже не отделяет себя от богатства, и ее голос, тело и даже звезды над особняком уже не существуют сами по себе, а становятся символами: «веранда ее дома тонула в сиянье самых дорогих звезд», даже сама Дэзи — «светлая, как серебро».
Задолго до ее встречи с Гэтсби на вилле в Ист-Эгге Нику Каррауэю казалось, что Дэзи с дочкой на руках должна бежать без оглядки от Тома Бьюкенена. После ее встречи с Гэтсби Нику это уже не казалось, а подразумевалось как нечто естественное. Но Дэзи, «бесконечно далекая от изнуряющей борьбы бедняков», принадлежала к тому же «привилегированному тайному обществу, к которому принадлежит и Том», а Гэтсби — лишь нувориш, случайный человек в мире бьюкененов и вулфшимов.
В 1922 г. Синклер Льюис выпустил один из своих лучших романов — «Бэббит», названный так по имени главного героя. Имя это стало нарицательным. Стереотип мышления, косность, ханжество были отличительными чертами этого «стандартного» американского гражданина. Фицджеральд в «Великом Гэтсби» создал образ по существу «среднего» американца, во многих своих проявлениях напоминающего Бэббита.
Хотя одним из рабочих названий романа Скотта Фицджеральда и было «Среди мусорных куч и миллионеров», однако «очень богатых людей» в «Великом Гэтсби» мало. Героев, занимающих заметное место в романе, всего двое — Джей Гэтсби и Том Бьюкенен. Если богатство Гэтсби «приобретенное», то богатство Тома, по крайней мере, на это намекает писатель, — унаследованное. Но, видимо, Фицджеральд намеренно наделил Тома Бьюкенена чертами, сходными с ограниченным и самодовольным Бэббитом. Но не эти черты и даже не то, что он фактически, толкает Уилсона на убийство, являются определяющими в образе Тома Бьюкенена. Фицджеральд изображает его как предшественника американского фашизма, как расиста, как дельца, убежденного в том, что все продается и покупается. В чем-то Бьюкенен предваряет и образ фашиствующего губернатора Вилли Старка из романа «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена.
Том читает, вообще говоря, редко, но с каким пафосом он говорит Каррауэю о «научных трудах», отстаивающих теорию расового превосходства англо-саксов: «Цивилизация идет насмарку… — Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъеме»?
— Нет, не приходилось, — ответил я, удивленный его тоном.
— Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея: если мы не будем настороже, белая раса… ну, словом, ее проглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано».
Фицджеральд смог разглядеть зародыш фашизма в Соединенных Штатах Америки.
Писатель называет акционерное общество Майера Вулфшима «Свастикой»(!), а глава его — некоронованный король афер — носит запонки из… человеческих зубов. Современному читателю невольно приходят на ум ассоциации с гитлеровским режимом.
Когда Том Бьюкенен держится за что-либо ему принадлежащее, будь то деньги, любовница или жена, он не останавливается ни перед чем, лишь бы не упустить свою собственность. И когда Каррауэй — единственный, узнавший всю правду, отказывается подать Тому руку, тот, в сущности, так ничего и не понимает, потому что с точки зрения морали Бьюкенена, его действия находят вполне весомые оправдания.
Фицджеральд не идеализирует Гэтсби — мишурное «величие» бутлеггера-богача даже сближает Гэтсби с его антиподом — Томом Бьюкененом, но великая любовь, собственная, а никак не «американская мечта» возвышают Гэтсби, и он становится чуть ли не самым привлекательным героем романа Фицджеральда наряду с рассказчиком — Ником Каррауэем.
Хотя и Гэтсби, и Каррауэй прошли мировую войну, «потерянность», от которой Гэтсби спасает его «великая мечта», ощущает только Ник.
При внутреннем сопоставлении Ника Каррауэя с Гэтсби и Бьюкененами он безусловно отличается от них. Но если в начале романа Ник несомненно ближе к Бьюкененам, по крайней мере, к Дэзи, то по мере развития романа и особенно в финале он так же безусловно отдаляется от среды, ставшей ему окончательно чужой, одновременно приближаясь к Гэтсби, несмотря на все «силы отталкивания».
Введение в роман повествователя сокращает дистанцию между автором и читателем, «но какие бы позиции не занимал этот… персонаж по отношению к протагонистам произведения, ставшими его побратимами, он, одновременно проецируя в себе волю художника, становится его маской, его искаженной тенью, неспособной к более активному, по сравнению с другими персонажами, вмешательству в канву повествования. А полноправным организатором художественного материала остается сам писатель, даже пребывая вне рамок жизненной драмы, разыгранной в произведении. Будучи одновременно постановщиком и суфлером, комментатором и зрителем, взволнованно переживающим перипетии, через которые должны пройти его герои, он руководит по заранее намеченному плану движением, каждым поступком, каждой мыслью своих персонажей».
Возьмем, к примеру, сцену знакомства Ника Каррауэя с Мейером Вулфшимом: «Подслеповато морщась, я, наконец, увидел Гэтсби — он стоял и разговаривал с кем-то в вестибюле.
— Мистер Каррауэй, познакомьтесь, пожалуйста, — мой друг мистер Вулфшим.
Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распушившихся у него в каждой ноздре. Чуть позже я рассмотрел в полутьме и пару узеньких глазок».
Конечно же, не трезвый и рационалистичный Ник Каррауэй столь образно рисует портрет одного из наиболее отталкивающих персонажей «Великого Гэтсби». Это — как и во многих других случаях — авторское видение. Но в том-то и заключается мастерство Фицджеральда, что он заставляет поверить в то, что именно Каррауэй и именно таким видит этого мошенника, афериста и денежного туза. Позиция рассказчика не совпадает непосредственно с авторской, но тем не менее чувствуется постоянная опосредованная связь в модели автор — повествователь.
Когда Ник Каррауэй вовлечен в действие, он — либо участник разворачивающихся событий, либо рассказчик-наблюдатель. Когда же Каррауэй оценивает события ретроспективно, то его голос гораздо чаще сливается с авторским и представляет собой иную точку зрения, отличающуюся от его же собственной во время непосредственного восприятия происходящего. Это помогает рассказчику, а вместе с ним и автору глубже раскрыть причинно-следственные связи, сопоставить различные временные и понятийные планы, проанализировать внешние и внутренние контакты других героев в какой-то степени «демиургически».
К примеру, рассказ Гэтсби о собственной жизни легко делится на две части. Реальную — он действительно учился в Оксфорде, участвовал в войне и, проявив героизм, получил ордена всех союзных держав, был произведен в майоры, и придуманную — историю приобретения своего сказочного состояния. По его словам, он получил его в наследство, а на самом деле оно результат ряда сомнительных сделок и незаконной торговли спиртными напитками.
Именно благодаря «ретроспективной», «демиургической» осведомленности Ника Каррауэя, читатель уже знает, где Гэтсби говорит правду, а где — нет. Примеров использования Фицджеральдом этого приема можно было бы назвать много.
Представление о Гэтсби, несмотря на первоначальную двойственную установку, высказанную Ником Каррауэем, складывается из пересечений многих точек зрения. Так, гости на вилле Гэтсби говорят не только о «тайне», окружающей Гэтсби, но и о том, что он — «не то племянник, не то двоюродный брат кайзера Вильгельма», намекая на то, что Гэтсби был немецким шпионом, называют его то «убийцей», то «племянником Гинденбурга», то «троюродным братом дьявола».
Гости Гэтсби злословят о нем и на ходу придумывают невероятные истории не только ради пустого балагурства. Это у них в крови: любым способом восставать против того, что им непонятно, что нарушает привычный ритм их жизни. Предельная консервативность, усредненность запросов неизбежно заставляют буржуа обрушиваться с ханжеской злостью на все, что неподвластно их пониманию, что каким-то образом отличается от их собственных устремлений, взглядов, запросов, примитивных идеалов. Единственное, что не позволяет им перейти грань, отделяющую сплетни от прямой травли, — это успех, достигнутый Гэтсби, его богатство.
Кроме этого «хора» большей частью анонимных голосов в романе есть целый ряд эпизодических рассказчиков. Это и подруга Дэзи — Джордан Бейкер, и Мейер Вулфшим, и отец Гэтсби, да и он сам. Но все эти «точки зрения» преломляются через восприятие Ника Каррауэя, пока в финале романа, все эпизодические повествователи не исчезают, полностью уступая место основному рассказчику, чей образ претерпевает за это время значительную эволюцию. Если поначалу Каррауэй говорит о своей привычке к сдержанности в суждениях, о своей терпимости, служащих ему ключом «к самым сложным натурам», достаточно серьезно, то постепенно тон рассказчика становится чуть ли не самоироничньм, поскольку после смерти Гэтсби Каррауэй утратил «всякий интерес к скоротечным людским печалям и радостям впопыхах».
Эпизод похорон — один из центральных в романе. Даже Дэзи, не говоря уже о многих людях, не раз пользовавшихся гостеприимством Гэтсби, не исполнила свой последний долг. А «у Гэтсби не оказалось в наличии близких», кроме Каррауэя.
Нику «хотелось найти ему кого-нибудь. Хотелось войти в комнату, где он лежал и пообещать ему: «Уж я вам найду кого-нибудь, Гэтсби. Будьте спокойны. Положитесь на меня, я вам кого-нибудь найду» (выделено нами. — В. К.)
Но никто больше не интересуется Гэтсби. Ник мечется по городу, отыскивая очередного «кого-нибудь» и совершенно искренне говорит отцу Гэтсби, что они «были самыми близкими друзьями».
Но Нью-Йорк, в котором живет масса людей, знавших Гэтсби, безмолвствует. И Каррауэй ничего не добивается, хотя как напоминание, как последняя просьба в его «мозгу… не переставало настойчиво биться… «Послушайте, старина, вы мне должны найти кого-нибудь (выделено нами. — В. К.). Вы должны приложить все силы. Не могу я пройти через это совсем один».
И как грустный реквием звучит диалог Каррауэя и единственного из гостей Гэтсби, приехавшего на кладбище: «У самых ворот Филин (так его прозвал Каррауэй. — В. К.) заговорил со мной:
— Мне не удалось поспеть к выносу.
— Никому, видно, не удалось.
— Вы шутите! — Он чуть не подскочил. — Господи боже мой! Да ведь у него бывали сотни людей!
Он опять снял очки и тщательно протер их, с одной стороны и с другой.
— Эх, бедняга! — сказал он».
Чтобы выделиться, главному герою романа Фицджеральда уже не нужно, подобно персонажам Фенимора Купера, Германа Мелвилла, Джека Лондона, быть «сильной личностью», «иметь непреклонную волю, самообладание, словом, исключительные личные качества.
Фицджеральд, как и другие писатели «потерянного поколения», в значительной степени утратившего идеалы («все боги умерли»), лихорадочно искал человеческое в человеке. Это одна из определяющих черт всех творчески близких Фицджеральду писателей. Иное дело, что пути, по которым шли поиски, были разными. Цель же была одна: найти ценности, способные противостоять долларовой цивилизации, в которой, казалось бы, нет и не может быть места истинно человеческим чувствам, любой положительной программе. И, надо отдать им должное, «потерянные» — Хемингуэй, Фолкнер, Вулф, Фицджеральд иногда находили подлинную человечность в мире бэббитов, но герой — одинокая личность бунтарского склада — был способен, как правило, не к борьбе, а лишь к противостоянию, к пассивному в основе своей индивидуалистическому протесту, что часто оканчивалось поражением победителей. Таковы при всех отличиях Мануэль Гарсия у Хемингуэя, Джей Гэтсби у Фицджеральда, Юджин Гант у Вулфа, в какой-то степени фолкнеровский Сарторис-внук. Такие герои часто бывают как бы оторваны от родной почвы, неорганичны для окружающего их микрокосма, резко выделяются на его фоне.
После выхода рассказа Хемингуэя «Непобежденный» Фицджеральд написал своему другу письмо, в котором содержится неожиданное утверждение: «Мануэль Гарсиа — это несомненно Гэтсби». Если иметь в виду только внешнее сходство, сопоставление покажется парадоксальным. Разве похож стареющий полунищий матадор на молодого богача? Внешне действительно не похож. Но если принять во внимание глубинный план, внутренний мир, то слова Фицджеральда уже не кажутся нелепыми. Оба героя — люди, сжигаемые «одной, но пламенной страстью» и идущие ради нее на все, но герой «кодекса» однозначно честен и мужествен, а Гэтсби двойствен и противоречив, но оба они, каждый в своем роде, — «непобежденные».
Относительные, отдаленные сравнения Гэтсби с Ником Каррауэем и с Томом Бьюкененом, их точки соприкосновения и резкого расхождения могут быть условно соотнесены с подобной линией в «Фиесте», где «различного рода ассоциативные сопоставления Джейка как с Коном, так и с Педро Ромеро и в плане контраста, и в плане параллелей не только не случайны, но, напротив, весьма значительны». «Побежденные победители» все же пытаются сохранить себя как личность даже в самых трагических ситуациях, как Джейк Барнс, противостоящий и отчаянию, и безысходности. Такой своеобразной «силы в слабости» не лишены и некоторые герои Фицджеральда. Лирические герои Хемингуэя не противостоят героям «кодекса», собственно они — те же герои кодекса, только надломленные, и поэтому смыкаются в гораздо большей степени с лирическими героями Фицджеральда.
Так же как Фицджеральд в «Великом Гэтсби», Хемингуэй в «Фиесте» сталкивает романтический идеал с безысходной действительностью. Это столкновение порождает глубокий трагизм обоих произведений. Действительно, трагический карнавал в «Фиесте» проходит для Джейка Барнса как бы ретроспективно высветленным — до отчаяния, глубочайшей боли, безнадежных порывов — одной-единственной фразой Брет: «Как бы нам хорошо было вместе».
И Брет говорит не совсем о несбыточном. Если бы самого предположения о любви и счастье не могло даже возникнуть, если бы даже самой такой возможности в сознании героев не существовало, тогда им легче было бы перенести полную несбыточность их мечты. Но им, как и Гэтсби, кажется, что «в одно прекрасное утро» мечта может осуществиться и именно кажущаяся возможность счастья ставит их в трагическое положение.
Гэтсби, даже преданный своей мечтой, не сдается — слишком сильна его вера. После обвинения в незаконных махинациях «Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дэзи, все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым словом все глубже уходила в себя, и в конце концов он умолк; только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты».
Гэтсби истинно велик «редкостным даром надежды», а его одиночество «предопределено высоким и сильным чувством, безнадежно далеким от реальности. Оно обречено в обществе, где подобные вещи вообще очень невысоко котируются».
Вот почему Каррауэй так радуется, что успел сказать Гэтсби первую и единственную похвалу за все непродолжительное время их знакомства:
«Ничтожество на ничтожестве, вот они кто, — крикнул я оглянувшись. — Вы один стоите их всех вместе взятых».
Эти слова имеют куда более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Ведь Каррауэй фактически отказался от людей своего круга и даже от любви к Джордан Бейкер, стал на сторону Гэтсби.
Как и в произведениях Генри Джеймса, рассказчик у Фицджеральда часто является заинтересованным лицом, стоит сравнить образы Ника Каррауэя и повествователя из «Писем Асперна». Несмотря на то что Ник более созерцателен, он тоже оказывается вовлеченным в действие.
Фицджеральд иногда весьма критически отзывается о произведениях Джеймса, этого своеобразного, «евро-американского» писателя, но в конце жизни среди своих любимых книг назвал и его повесть «Дэзи Миллер». Отрицал он и всяческую связь между своим творчеством и творчеством Джеймса, хотя и цитировал с восторгом письмо Т.-С. Элиота, где тот сказал о «Великом Гэтсби», что эта книга стала «первым шагом, который сделал американский роман со времен Генри Джеймса». Фицджеральд все же был несколько категоричен и в оценке творчества Джеймса, и в полном отрицании некоторого типологического сходства между Джеймсом и собой. Хотя, конечно же, рассматривая творчество Джеймса и Фицджеральда, нетрудно заметить некоторое сходство в проблематике, в изобразительных средствах, в системе психологического анализа.
По существу, и Джей Гэтсби — в меньшей степени, и Дик Дайвер, и Монро Стар — в большей являются личностями-художниками. Так, Гэтсби творил образ Дэзи, приобретший в его воображении «огромную жизненную силу», «подлинной страстью художника» Дик создает целый мир — полуматериальный, полувоображаемый — для Николь, а Стар — не только бизнесмен и продюсер, но и очень способный режиссер. Поэтому в какой-то степени в своих лучших романах Фицджеральд рассматривает проблему отношений художника и общества; что часто делает и Генри Джеймс. Его повесть «Письма Асперна», рассказы «Смерть льва», «Урок мастера», «В следующий раз» также касаются проблемы «художник и общество». Взгляды на эти отношения с разных точек зрения, включая авторскую, позволяют говорить и о сходных изобразительных средствах у Джеймса и Фицджеральда.
Вероятно, и затуманенность, расплывчатость главного героя «Писем Асперна», принцип «драматизации», ироничность повествования не могли не оставить следа на творчестве Фицджеральда.
Уже у Джеймса в произведениях, трактующих отношения художника и общества как трагические и противоречивые, появляется та тенденция к полифонизму, которая будет развита наиболее значительными американскими писателями (в том числе и Фицджеральдом) в период между войнами. Джеймс был и мастером создания атмосферы произведения. Именно об этой особенности таланта Джеймса писала А. А. Елистратова: «В «Дэзи Миллер» уже проявилось незаурядное мастерство Джеймса в воссоздании атмосферы действия. Поэтический колорит Италии, в частности, великолепно уловлен им и в этой новелле, особенно в изображении ночного Рима, и в «Письмах Асперна», действие которых разворачивается в Венеции. В предисловии к этой повести Джеймс с особым лирическим чувством говорит о своих воспоминаниях об Италии, которые определили тональность «Писем Асперна» и придали «всей истории романтическую гармоничность». Лирико-эмоциональная образность также во многом определила атмосферу действия в «Великом Гэтсби».
Как и Джеймс, Фицджеральд считал одним из важнейших достоинств художественного произведения «атмосферу реальности», созданную в нем. Но иногда и Джеймс, и Фицджеральд достигали этой цели «от обратного», вводя в повествование элементы необъяснимые, таинственные (Джеймс), или же стоящие на границе фантазии и реальности, «нефантастическую фантастику» (Фицджеральд). Такой особый прием позволял Джеймсу в «Письмах Асперна» или же Фицджеральду в «Великом Гэтсби» связать призрачный мир воображения с реалиями жизни, резко, а иногда и гротескно их очертить.
Подобно Джеймсу, Фицджеральд часто придает произведению особую тональность, вводя в повествование героя-рассказчика с его убеждениями, мировоззрением, субъективной психологией, принимающего самое активное участие в событиях, о которых повествует. Но Фицджеральд в отличие от Джеймса не склонен предполагать, что существует еще какая-то версия, «иная реальность», кроме той, с которой нас знакомит рассказчик, будь то Ник Каррауэй или Сесилия Брейди, не прибегает к мистификации, а «тайна» или «таинственное» у Фицджеральда никогда не бывают скрыты полумистической дымкой, которая не рассеивается, а наоборот, становится едва ли не основной предпосылкой для многозначного прочтения произведения. Сдвиг реальности у Фицджеральда почти незаметен, тогда как у Джеймса, например в «Повороте винта», играет огромную роль и выходит на первый план с самого начала повести, придает ей особую тональность и даже параболичность.
Впрочем, несмотря на все эти точки соприкосновения, Фицджеральд был во многом прав, утверждая, что самое большое влияние на его третий роман оказала «мужественная манера «Братьев Карамазовых», творения непревзойденной формы, а не дамское рукоделие Джеймса в «Женском портрете».
Фицджеральд был хорошо знаком с русской культурой и литературой. Так, он читал Гоголя, Чехова, Льва Толстого, был высокого мнения о музыке Чайковского и Стравинского, но, пожалуй, наибольшее влияние произвел на него гений Достоевского. Впрочем, великий русский писатель был близок не только Фицджеральду, ведь «открытие Достоевского американской интеллигенцией — характерная черта духовной жизни США в условиях, когда оборотная сторона буржуазного процесса стала очевидной, по крайней мере для людей мыслящих и чутких, даже в самой богатой и процветающей из стран буржуазного мира».
Поэтичность, как эстетическая функция прозы, присуща всем лучшим произведениям Фицджеральда. Причем она достигается не только «лиризацией», например, многих страниц «Великого Гэтсби», или метафоричностью, ассоциативностью, образами-символами, но и тональностью, созданием особой атмосферы действия, чему во многом способствуют и контрастное сопоставление, и гротескные элементы на грани с фантастикой, особенно в изображении Нью-Йорка. И в этом Нью-Йорк Фицджеральда с известными оговорками может быть сопоставлен с Петербургом Гоголя или Достоевского. Так, Фицджеральд, как и Гоголь, не часто вводит конкретные элементы фантастического в свои произведения, но в то же время импрессионизм и гротеск создают почти фантастическую атмосферу, что в комплексе становится эмоциональной доминантой, обостряет и социальное звучание таких совершенно разных произведений, как, например, «Невский проспект» и «Великий Гэтсби».
Фицджеральд прямо заявлял о непосредственном влиянии Достоевского на свое творчество, и с этим нельзя не согласиться. Применяя термин М. Бахтина, роман Фицджеральда «Ночь нежна» вполне подходит под определение «полифонического» романа. Голоса героев и голос автора сосуществуют на равных, герои приобретают определенную «автономию» и интересуют они писателя «в первую очередь как особые «точки зрения» на мир и на самих себя».
Творчество Фицджеральда и Достоевского нельзя сопоставлять на уровне таких художественных особенностей, как гротесковость или метафоричность. Здесь речь может идти о поэтике, о художественной системе, о контактном влиянии, несмотря на поистине бесчисленное количество оговорок. Но в данном случае нас интересуют не оговорки, не расхождения, а точки соприкосновения.
Несмотря на совершенно различную тональность произведений Достоевского и Фицджеральда, трагизм состоит в том, что «величайшая красота человека, величайшая чистота его… и, наконец, величайший ум, — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в осмеяние человечеством».
Близость Фицджеральда к Достоевскому проявляется в смешении величественного и ничтожного, высокого и низменного, в таких приемах, как элементы «потока сознания», экспрессионистической деформации, но, прежде всего, в создании особой, загадочной, таинственной и трагической атмосферы, пронизывающей структуру произведения.
Д. В. Затонский определяет этот феномен в творчестве Достоевского не только как художественное, но и как социальное предвидение: «Он первым, наверное, в мировой литературе начал воссоздавать самое «атмосферу» нового буржуазного бытия. Нечто почти неосязаемое, но угрожающее; какую-то непоправимую смещенность всех человеческих отношений. Бахтин пишет, например, о «Преступлении и наказании», что «Петербург там изображен на грани бытия и небытия, реальности и фантасмагории, которая вот-вот рассеется как туман и сгинет».
Нечто в этом роде встречалось у романтиков, но там фантастика преобладала, оказывалась порой «реальнее» действительности. Такой «пограничный (между явью и сном) мир рисовал порой и Диккенс, но лишь порой, и потому он не вполне согласовывался с трезвым контекстом романа. «Атмосфера» Достоевского всеобъемлюща. Оттого она — и сама — способ синтезирования. Но она в каждое мгновение готова «рассеяться», «сгинуть». Ибо это — лишь отражение, преломление существующего и реально как чисто человеческая действительность, а не объективная данность».
Попробуем разобраться, что же создает такую атмосферу.
Прежде всего, почти все герои как Достоевского, так и Фицджеральда по тем или иным причинам находятся в духовном и социальном одиночестве и в кризисном состоянии. Однако кризис настиг не только их, не только общество, но и город, где они живут, в данном случае Петербург и Нью-Йорк. Город выступает здесь в известном смысле метафорой самого общества, он заболевает как живой организм, находится «на грани бытия и небытия», сама действительность приобретает черты призрачности и временами выглядит почти фантастической.
Образ города возникает у Достоевского на первых же страницах «Преступления и наказания», и это совсем не та, известная всему миру своей красотой российская столица. Петербург наряду со сном Раскольникова об убитой лошади как камертон задает тон всему роману, создает «атмосферу».
Подобное наблюдаем у Фицджеральда в «Великом Гэтсби». Прозрачная метафора «Долины Шлака», контрастирующая с навсегда исчезнувшим «нетронутым зеленым лоном нового мира», переносится, по существу, на весь роман, заметно влияя на его композицию.
Вспомним один незначительный, казалось бы, эпизод из «Братьев Карамазовых», в котором Федор Павлович Карамазов узнает о смерти своей жены Аделаиды Ивановны, сбежавшей незадолго до того с нищим семинаристом-учителем в Петербург. Его реакция несколько неожиданна, собственно говоря, реакций две — контрастных и противоположных — Федор Павлович «и радовался своему освобождению и плакал по освободительнице — все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже».
Два контрастных, казалось бы, взаимоисключающих взгляда? Нет, двуединство, диалектика развития образа, что подтверждают дальнейшие страницы «Братьев - Карамазовых», да и других произведений великого русского писателя. У Достоевского в приведенной цитате автор смотрит на героя с двух точек зрения, и такую полярность, явную или завуалированную, можно заметить и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте». Нечто весьма похожее наблюдаем и у Фицджеральда. Американский писатель нередко применял прием «двойного видения», т. е. сближения контрастных, взаимопротиворечащих черт (достаточно вспомнить два плана «величия» Гэтсби) для достижения более объемного изображения, глубокого психологизма. Сам Фицджеральд писал об этом, вероятно, не без влияния Достоевского: «Свидетельством первоклассного ума является способность одновременно держать в уме две противоположные идеи, не теряя способности мыслить».
Мы говорим здесь о влиянии Достоевского хотя бы потому, что высказывание Фицджеральда, да и этот важный принцип в его творчестве могли возникнуть под впечатлением карамазовского созерцания «двух бездн разом».
Двойственность появляется и в отношении героев Достоевского и Фицджеральда к деньгам. В обоих романах — и «Преступление и наказание», и «Великий Гэтсби» писатели создают настолько сложную коллизию, что деньги, играющие поначалу столь важную роль для персонажей, теряют в итоге свое первоначальное значение, а конфликт переносится в иную сферу. Хотя роль денег полностью не снимается, наоборот, когда их нет — они владеют помыслами Раскольникова и Гэтсби, но владеют лишь в связи с другой идеей. И не случайно Раскольников так и оставляет под камнем в петербургском дворике деньги убитой им старухи, а Гэтсби теряет всякий интерес к собственному богатству, вновь добившись любви Дэзи.
Выше уже говорилось о том, что герои Достоевского и Фицджеральда находятся в глубоком кризисе. Но кризисным было и время, когда жил Достоевский, — происходил распад феодально-крепостнических отношений в России и ему на смену приходили капиталистические отношения. Во время формирования Фицджеральда как писателя США тоже вступили в полосу затяжных кризисов в самых различных сферах, порожденных прежде всего первой мировой войной и Великой Октябрьской социалистической революцией. Вероятно, поэтому в обоих случаях трагедия отдельной личности символически переносится на все общество, на всю страну, несмотря на все различия во времени, общественно-политических тенденциях разных стран и характере художественного мировосприятия Достоевского и Фицджеральда. «Достоевский неизменно смотрел… на психологию душевнобольного или самоубийцы прежде всего как на характерный факт времени, как на своеобразное «фантастическое» по форме выражения, но вместе с тем окрашенное определенным исторически-конкретным содержанием проявление скрытых болезней, присущих общественной и идеологической жизни эпохи». Фицджеральд в романе «Ночь нежна» попытался разглядеть определенные тенденции современного ему буржуазного общества, выражая не только типичное в действительности, но и аналитически подходя к ней, выражая определенную идею.
Кровосмеситель Девре Уоррен, болезнь Николь в определенной степени олицетворяют духовный кризис, распад межличностных связей, внутреннее неблагополучие современного Фицджеральду буржуазного общества.
В эссе «Отзвуки Века Джаза» Фицджеральд пишет об изменчивом, кризисном, несмотря на внешнее «великолепие», времени уже не опосредованно, а прямо: «Помню, как один мой знакомый, уехавший на постоянное жилье в Европу, получил от нашего общего приятеля письмо, в котором тот настойчиво звал его вернуться домой и начать новую жизнь, черпая силы для нее в здоровом, бодрящем воздухе родных мест. Письмо было написано страстно и произвело на нас обоих большое впечатление, но, взглянув на штамп в углу листка, мы увидели, что оно отправлено из лечебницы для душевнобольных в Пенсильвании.
То было время, когда мои сверстники начали один за другим исчезать в темной пасти насилия. Один мой школьный товарищ убил на Лонг-Айленде жену, а затем покончил с собой; другой «случайно» упал с крыши небоскреба в Филадельфии, третий — уже не случайно — с небоскреба в Нью-Йорке. Одного прикончили в подпольном кабаке в Чикаго, другого избили до полусмерти в подпольном кабаке в Нью-Йорке, и домой, в Принстонский клуб, он дотащился лишь затем, чтобы тут же испустить дух; еще одному какой-то маньяк в сумасшедшем доме, куда того поместили, проломил топором череп. Обо всех этих катастрофах я узнавал не стороной — все это были мои друзья; мало того, эти события происходили не в годы кризиса, а в годы процветания». Далее Фицджеральд в этом же эссе неоднократно подчеркивает, что духовный, общественный кризис опередил экономический и стал неотъемлемой чертой «просперити».
Достоевский не случайно стал для Фицджеральда, как, впрочем, и для многих других его современников, одним из наиболее близких писателей. Это произошло, кроме всех иных причин, еще и потому, что «у писателей США, вступивших в литературу после первой мировой войны, был свой, особый национальный аспект восприятия Достоевского: он осознавался как сокрушительная антитеза миру бэббитов. Мучительная и вызывающая откровенность, с какой он говорил о страданиях людей, получила живой душевный отклик, была противоядием против идеологии самодовольного американца. И у Фолкнера, и у Шервуда Андерсона, и у других творчески близких им прозаиков повышенное внимание к бедам и уродствам, поиски героев необычных, подчас даже ущербных, во всяком случае, не укладывающихся ни в какие стандарты, — все это в известной мере становилось полемическим вызовом, протестом против улыбающейся пошлости реклам и официального оптимизма газетных передовых. И в этом смысле создатель Раскольникова мог быть для писателей-реалистов США опорой и образцом».
Гоголь наряду с Достоевским был тем русским писателем, чье влияние в определенной степени также чувствуется в творчестве Фицджеральда, однако в несколько ином аспекте.
Советский ученый А. Н. Горбунов писал о том, что Гэтсби «может показаться личностью абсурдно-комической и немного нереальной». Это сказано о Гэтсби — владельце огромного богатства, выскочке в нелепом розовом костюме, к которому Фицджеральд относится с нескрываемой иронией. Далее Горбунов пишет и о втором плане «величия» Гэтсби, но свою мысль не развивает. Но если, по мере развития образа, «абсурдно-комическая личность» уступает место личности по-настоящему трагической, то «нереальность» Гэтсби сохраняется и в те моменты, когда Фицджеральд «сменяет» точку зрения на своего героя, используя принцип «двойного видения».
«Мечта» Гэтсби обладает такой силой, что создает впечатление сдвига реальности, например, герой Фицджеральда с необычайной легкостью и полной уверенностью в своей правоте утверждает, что вполне возможно вернуть прошлое, второй раз войти в одну и ту же реку. Еще большую «нереальность» образу Гэтсби придает его почти полное одиночество, наряду с «болезнью» души, одержимостью мечтой. И нарушить это одиночество способен только Ник Каррауэй, да и то лишь потому, что он служит, по крайней мере, на первых порах, средством для осуществления мечты Гэтсби, а затем открыто принимает его сторону. Именно верность идеалу, мечте вступает в такое противоречие с миром коррупции, с безликими прихлебателями, гостившими на вилле Гэтсби, что сам образ главного героя приобретает черты необычные, если не сказать — фантастические, и можно найти типологически сходные черты между ним и гоголевским художником Пискаревым. Собственно фантастических атрибутов в их «чистом» виде в «Великом Гэтсби» нет. Впрочем, их нет и в «Невском проспекте» Гоголя в отличие от его других «петербургских повестей», «но сама атмосфера произведения говорит о необычности того, что происходит, о предчувствии неожиданного, «чуда», когда сама действительность выглядит зыбкой, призрачной, расплывчатой, иными словами, почти фантастической: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» (выделено нами. — В. К.).
В известной мере подобный почти незаметный сдвиг реальности, создающий особую атмосферу романа, наблюдаем и в «Великом Гэтсби»: «Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорей не сон, а фантастическое видение (выделено нами. — В. К.), напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся иод хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому — это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать.
После смерти Гэтсби я не мог отделаться от подобных видений; все представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в состоянии коррегировать».
В творчестве Фицджеральда трудно, за исключением гротескно-фантастического рассказа «Бриллиант величиной с отель «Риц», найти проявления собственно фантастических форм. Но в то же время, условно говоря, «нефантастическая фантастика» оставила заметный след в его творчестве, особенно в создании «атмосферы» произведения.
Образ Нью-Йорка в «Великом Гэтсби» — многозначен. Он выступает и просто как столица Соединенных Штатов, «в которой длинным белым пирогом протянулись одинаковые многоквартирные дома», но в такой ипостаси он занимает некое «промежуточное» место между двумя другими, резко контрастирующими образами — «долины шлака» и нетронутого лона «нового» мира.
Сквозь мотивы неосуществимости мечты, звучащие на протяжении всего романа, пробивается символический образ, который в конце концов становится внутренним, гротескно очерченным, метафорическим центром. В финале романа луна, поднимавшаяся над проливом, стирает очертания «ненужных построек» (выделено нами. — В. К.) и вместо них предстает первозданное — «древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков — нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев… был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, — ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению».
И это не просто пейзаж. Во что превратился этот Эдем, земля обетованная, чаша Грааля? В мрачную фантасмагорическую «Долину Шлака». Святое в человеке уступило место богу шлаковой страны — рекламному плакату с выцветшими глазами, а мечта — реальной меркантильной буржуазной действительности, где уже нет места зеленому огоньку надежды.
Гэтсби верил, что прошлое можно вернуть, в известной степени его мечта, его вера передалась даже весьма скептично настроенному Нику Каррауэю. Но превратить «Долину Шлака» в нетронутый зеленый остров невозможно, как невозможно расчистить в человеческих душах свалку, вернуть человека к его естественному состоянию.
После смерти Гэтсби Ник Каррауэй оказывается в замкнутом круге. Пытаясь разорвать его, он спешит домой, на Запад, но вряд ли Ник обретет покой и там. Зыбкие надежды, тревоги и осознание трагической сущности обесцененного бездуховного бытия в «свободном мире» воплощаются в размышлениях Каррауэя о Гэтсби и о безрадостной будущности буржуазной Америки: «И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку — и он поймает ее…
Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигалось с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня — не беда, завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки… И в одно прекрасное утро…
Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое».
Таким образом, в финале романа писатель от судьбы Гэтсби переходит к судьбам всех персонажей романа и шире — к судьбе Америки.
«Американская мечта» исчезла, как исчезли деревья, под сенью которых отдыхали после многотрудного плавания голландские моряки, как мечта самого Гэтсби.
Мечту поглотила «Долина Шлака», — и призрачная нива, на которой шлак всходит, как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; перед вами шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится, и сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней уже не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом».
Как «бесплодная земля» Элиота, этот микрокосм, эта «страна» находится на далекой и в то же время на нашей планете. Образ «долины шлака» символический, подобно Нью-Йорку в «Манхэттене» Дос Пассоса или Чикаго в «Титане» Драйзера; это — свалка человеческих надежд и иллюзий, годных лишь на то, чтобы быть навсегда погребенными в горах мусора. Подобным символом буржуазного общества, например, в «Манхэттене» Дос Пассоса становится образ города. Подобным, при всех различиях творческой манеры Фицджеральда и автора трилогии «США». Уже первая книга Дос Пассоса — «Посвящение одного человека» (1917) была отмечена фрагментарностью, писателем использовались элементы «монтажа», ставшего важнейшим в «Трех солдатах». Именно он влияет на изложение, которое становится иногда параллельным. Монтаж ускоряет или замедляет ритм повествования.
Тяга Дос Пассоса к синтезу искусств, к экспериментаторству, сочеталась в 20-е годы с неприятием войны и капиталистического общества. «Монтажное» сопоставление эпизодов, внешняя неэмоциональность, почти полное отсутствие авторской речи в «Манхэттене» были призваны передать «общую картину жизни большого капиталистического города. Но едва ли хаотичность структуры романа и представлений, вызываемых романом, является лучшим способом передать хаотичность буржуазного общества. Ведь в хаосе, в конце концов, оказывается затерянной и сама идея осуждения этого хаоса буржуазного мира».
В переплетении сюжетных линий на первый план у Дос Пассоса выдвигается образ города. Он становится не фоном, а важным содержательным элементом, динамичным, меняющимся, постепенно превращающимся в один из важнейших образов романа. В таком качестве город выступал не раз в мировой, в частности в русской литературе. Достаточно вспомнить хотя бы «Медного всадника» Пушкина, «Преступление и наказание» Достоевского, «Невский проспект» Гоголя, «Петербург» Белого.
Главные герои Манхэттена то возникают, то теряются в хаосе Нью-Йорка, в «литературной киноленте», причудливо смонтированной, фрагментарной, причем фрагментарность эта чаще всего не слишком мотивирована, а ведь «если эпизоды соединены случайно, то между ними не лежит ничего, они не помогают жить один другому. Город несет человека, как горная река соломинку, и совершенно неясно, что с ним станется в следующий момент; город — как Молох — требует жертв, выступает символом зла.
Искусство многих, наиболее значительных писателей США подчас складывалось в противоборстве реалистического и модернистского методов и направлений. Американская литература испытала влияние фрейдизма, прагматизма Вильяма Джеймса и Дьюи, а также европейского модернизма и декаданса. Формальное экспериментаторство оставило след в 20-е годы на творчестве Дос Пассоса, Каммингса, даже Фолкнера и Хемингуэя. Творчество Джойса и Гертруды Стайн, Эзры Паунда и Элиота оказало определенное влияние на европейскую и американскую литературу той поры. То было время попыток уловить еще не устоявшиеся закономерности жизни, исторического процесса, «наиболее интенсивного горения модернистских школ, а Париж был вселенской столицей. Писатели, поэты, художники со всего мира слетались сюда, как бабочки на яркий свет и многие из них гибли, опалив себе крылья в багровом пламени «чистых» форм, беспредметных исканий, беспросветного отчаяния. Однако для многих художников воздействие подобных тенденций было непродолжительным. Это подтверждает эволюция Арагона и Элюара от сюрреализма к реализму, Бехера — от экспрессионизма к реализму и т. д.
Фицджеральд не занимался формальным экспериментаторством в отличие, например, от Фолкнера, который вступил в литературу несколько позже Фицджеральда и Хемингуэя. Его дебют — роман «Солдатская награда» (1926) опирался на опыт войны и еще никак не предвещал сагу об Иокнапатофе. Фолкнер искал свою тему и проблематику, но к 1929 г. он хотя и был автором еще одного романа, все же «Москиты» (1927), эта книга о «веке джаза», о «потерянных» фактически тоже была не более чем пробой пера. Однако в 1929 г. появились сразу два романа, прославившие их автора — «Сарторис» и «Шум и ярость».
«Сарторис» примечателен хотя бы уже тем, что в нем впервые появляются Йокнапатофа и Джефферсон и такие герои, как Флем Сноупс и «династия» Сарторисов. По совету Шервуда Андерсона Фолкнер принялся разрабатывать свою тему — свою «золотую жилу» — жизнь американского Юга. В отличие от Хемингуэя и Фицджеральда, не только живших в 20-е годы в Париже, не только находившихся под воздействием европейской литературы, но и перенесших действие некоторых своих произведений в Европу, Фолкнер, начиная с «Сарториса» и «Шума и ярости», остается верен американскому Югу, хотя, конечно, национальная замкнутость была ему, наверно, не менее чужда, чем «паломникам в Европу».
Почти в каждом из своих романов Фолкнер касается легенды о прошлом Юга, а иногда несколько идеализирует его, как это случилось в «Непобежденных», где в качестве героев вновь выступает династия Сарторисов. Прошлое «легендарно» для той же семьи в романе «Сарторис», а непосредственное прошлое молодого Баярда Сарториса — главного героя романа — статично и замкнуто внутри себя на одном и том же воспоминании — гибели брата-летчика во время их совместного полета. Это оставило неизгладимый след на психике Баярда. Он не делает каких-либо четких выводов, не приходит ни к каким решениям, кроме одного — доказать самому себе, что он не боится смерти. Война, даже после окончания, тем не менее продолжается для Баярда. Продолжается, пожалуй, в еще большей степени, чем для таких героев Хемингуэя, как Джейк Барнс и лейтенант Генри, не говоря уже о персонажах Фицджеральда.
Не столько послевоенная атмосфера влияет на Сарториса, как он сам волей-неволей создает эту атмосферу отчаяния и потрясений. Он, как и Гэтсби, несмотря на все их различия, воспринимает прошлое и настоящее не дифференцированно, а в единстве, как элементы однородного статичного пространства. Отсутствие расстояния между прошлым и настоящим, а следовательно, и трезвой оценки прошлого не дает возможности оторваться от него и решить его противоречия.
Фолкнер уделяет огромное внимание семейным отношениям и семейным традициям, играющим роковую роль в жизни Баярда Сарториса (мужчины из рода Сарторисов поколение из поколения гибли на войне) или Квентина Компсона («Шум и ярость»). «Падение дома Компсонов» — история когда-то процветающей, а ныне деградирующей семьи. Как и в последних произведениях Фицджеральда, у Фолкнера все «носители человечного, любви, жалости, сострадания погибают». Их ждет либо смерть, либо духовный крах. И при всех различиях творческих индивидуальностей Фолкнера и Фицджеральда элементы романтизма в их творчестве, сквозная мысль о том, что только бездушие и жестокость помогают человеку приспособиться к бесчеловечному миру, в известной степени сближают выдающихся американских писателей.
В то же время Фицджеральд в отличие от Фолкнера не создавал своей «модели мира», подобной Йокнапатофе. Он даже в ранний период творчества не относился ко злу как имманентной данности и не рассматривал его во вневременной плоскости, у него редко можно встретить прямое отражение процессов, происходящих в сознании и подсознании человека, а «многоглазия» нет вовсе.
В год выхода романов «Сарторис», «Шум и ярость» на литературной карте США наряду с Йокнапатофой Фолкнера появилась и Алтамонта Томаса Вулфа — вышел его роман «Оглянись на дом свой, ангел». Вулф был несколько моложе своих знаменитых современников, принадлежавших к «потерянному поколению» (он родился в 1900 г.), в меньшей степени испытал воздействие войны, «разрыва времен». Прошлое у него не становилось судьей над настоящим, как у Фолкнера, ему не знакома и фицджеральдовская ностальгия по прошлому. Прошлое, настоящее и будущее он представлял себе некой неразрывной триадой, герой его первого романа — Юджин Гант приобретает черты романтической исключительности, он живет в маленьком южном городке, отделенном от «другой Америки» цепью гор, и мир за горами предстает перед ним в мечтах как единственно реальный, истинный и прекрасный. Следуя в русле твеновской традиции, Вулф избирает героем подростка, вступающего в жизнь, но при столкновении с ней утрачивающего нечто самое ценное в себе, в своих взглядах на жизнь, в своем общем мировосприятии. Хотя Юджин и в конце этого романа остается романтичным монолитом, его вера в иную, настоящую — с его точки зрения — жизнь сохраняется, несмотря на его трагическое одиночество.
Вулф хотел создать своеобразный грандиозный эпос, его мучила «жажда охватить все», но при этом он оставался одним из поэтичнейших писателей своего времени. Не удивительно, что его проза неоднократно издавалась и как стихи, что, впрочем, легко можно было бы сделать и с лучшими страницами Фицджеральда, считавшего, что его собственный талант — «поэтического рода», а самобытность, оригинальность стиля, по его мнению, может помочь выработать только поэзия — самая «концентрированная форма» стиля.
Фицджеральду в отличие от Вулфа не было присуще стремление «поместить в свою книгу вселенную бытия». Его волновала не широта охвата, а постижение глубины явления. Острое личностное восприятие окружающего мира было присуще как Фицджеральду, так и Вулфу, и резко отразилось на их художественном творчестве. Но атмосфера их произведений складывалась не только в соответствии с их различным мировосприятием, но и с разными задачами, которые ставили перед собой два больших и непохожих художника.
После выхода в свет «Великого Гэтсби» Фицджеральд почти сразу же начал работу над новым романом, которую, впрочем, часто прерывал для того, чтобы написать очередной рассказ. В письме Максуэллу Перкинсу в мае 1926 г. Фицджеральд одновременно говорит о своей уверенности в том, что новая книга получается «великолепной», но тут же «абсолютно конфиденциально» сообщает своему редактору о гонораре в 3500 долларов за очередной ходкий журнальный рассказ. Фицджеральд надеялся, что новая книга, «если его ничто от нее не оторвет», может выйти в журнальном варианте весной или осенью 1927 г. В апреле 1927 г. Фицджеральд пишет Хемингуэю, что закончит свой новый роман 1 июля. «Ночь нежна» вышла только в 1934 г. …
Слишком многое отрывало писателя от работы над новым романом. После публикации «Великого Гэтсби» Фицджеральд все реже и реже работает «для своей мечты». Его творчеству вредили и уступки «коммерческому искусству», и психическое заболевание жены, и его образ жизни: «Писатель, так проницательно угадавший неизбежный финал «века джаза», спорил с человеком, который еще совсем не свободен от иллюзий «джазовых» лет и, наперекор своему же убеждению, высказанному в Гэтсби, верит, что придет для него «прекрасное утро», затеплится «зеленый огонек».
«Зеленый огонек» вспыхивал нечасто. Большинство рассказов, написанных Фицджеральдом в конце 20-х годов, даже из числа лучших, во многом повторяли самого Фицджеральда — кумира «века джаза», такие, к примеру, как «Бурный рейс» (1929), «Возвращение домой» (1927), «Последняя красавица юга» (1929). Но наряду с ними Фицджеральд написал и такую удивительную миниатюру, как «На улице, где живет столяр» (1928), где мастерски соотносит психологию взрослого и ребенка, глубоким психологическим анализом блеснул он и в новелле «Две вины», а в рассказе (скорее, это — небольшая повесть) «Молодой богач» сумел посмотреть на «очень богатых людей» в ином ракурсе, чем это было до сих пор.
Фицджеральд в 20-е годы не просто выдвинулся в первые ряды писателей США. Он сумел с большой художественной силой отразить многие скрытые процессы, происходящие в самой богатой из капиталистических стран в этот период. Взгляд Фицджеральда на буржуазный «прогресс» становится все более критичным. Но тематическая и идейная новизна, высокое мастерство, столь полно проявившееся в «Великом Гэтсби» и лучших новеллах писателя, не принесли ему успеха среди широкого читателя. Он, в известном смысле, опередил свое время.
Парадоксальный, на первый взгляд, факт — самые слабые произведения Фицджеральда были наиболее популярными, и наоборот. Впрочем, писатель, пусть не сразу и не во всех аспектах, но все же смог разобраться в некоторых причинах этого парадокса.
Фицджеральд совершенно справедливо полагал, что духовная жизнь личности в Америке быстро меняется явно не в лучшую сторону. Наступление монополистического капитала не могло не повлиять и на духовную жизнь страны, в которой художник был бессилен перед бизнесменами от искусства, «как владелец лавочки перед объединением универсальных магазинов». «Приметы нервного истощения», а также жажды наслаждений и погони за удовольствиями проявлялись все рельефнее 132, хотя и ранее «жизнь уподобилась состязанию в беге из «Алисы в стране чудес»: какое бы ты место ни занял, приз все равно был тебе обеспечен. У Века Джаза была бурная юность и пьяная молодость… На смену ему пришли другие времена: к таким вещам, как секс или убийство, подходили теперь более обдуманно, хотя они и стали куда более заурядными». Феномен, позднее названный «массовой культурой», постепенно вытеснил сначала на вторые, а затем и на десятые роли культуру истинную. Опасность всех этих изменений оставалась скрытой. Кризис многим открыл глаза на истинное положение вещей, но лишь единицы, и среди них Фицджеральд, чувствовали, что это — лишь начало морального, духовного разложения нации и одновременно конец «американской мечты», хотя ее рецидивы встречаются даже в наши дни. Причем к такому выводу пришел человек, называвший позднее себя — двадцатилетнего — «типичным порождением эпохи». Однако для зрелого писателя «прекрасный мираж» растаял навсегда.
Несмотря на другие значительные художественные достижения, именно «Великий Гэтсби» определяет высшую ступень художественного развития Фицджеральда. Этот роман позволяет говорить о принадлежности его творчества к самым заметным явлениям американской литературы 20-х годов, а именно тогда появились лучшие романы Синклера Льюиса, произведения Хемингуэя, Фолкнера, сборники новелл Шервуда Андерсона, лучшие книги Дос Пассоса, знаменитая «Американская трагедия» Теодора Драйзера.
Но даже на таком блестящем фоне творчество автора «Гэтсби» не теряется. Имя Френсиса Скотта Фицджеральда, чутко уловившего и блестяще воплотившего в художественных произведениях изменчивую пору «века джаза», мастера психологического анализа, рассматривавшего истинно человеческое в высоком его проявлении как антитезу буржуазному образу жизни, стоит в одном ряду с именами наиболее выдающихся американских писателей этого периода, и лучшие его произведения имеют непреходящее значение.
Далее: 2. Творчество Фицджеральда и «Красные Тридцатые»
Опубликовано в издании: Кухалашвили, В. К. Ф. С. Фицджеральд и американский литературный процесс 20-30-x годов ХХ в. Киев (монография).