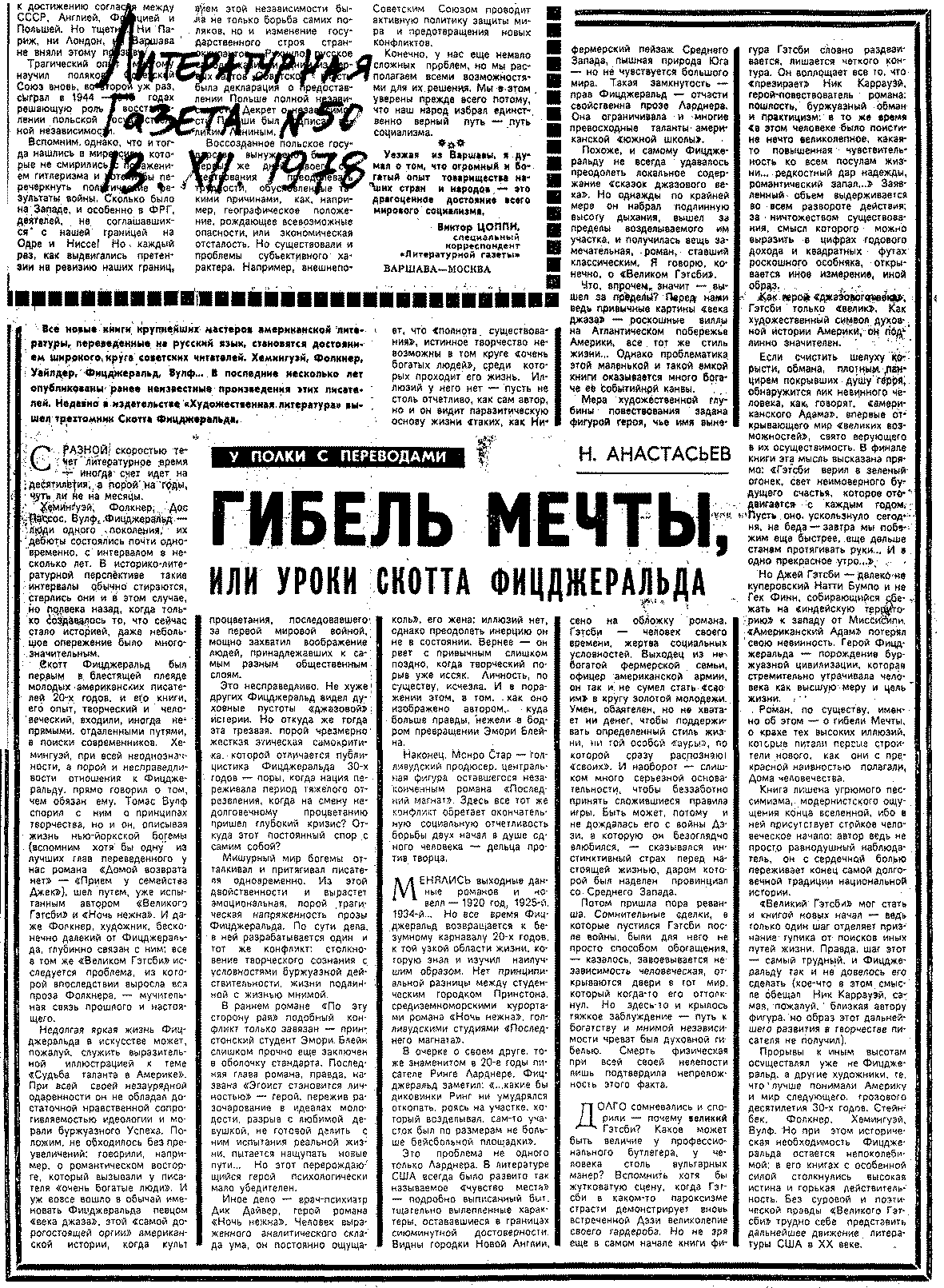Николай Анастасьев
Гибель мечты, или уроки Скотта Фицджеральда
Все новые книги крупнейших мастеров американской литературы, переведенные на русский язык, становятся достоянием широкого круга советских читателей. Хемингуэй, Фолкнер, Уайлдер, Фицджеральд, Вулф… В последние несколько лет опубликованы ранее неизвестные произведения этих писателей. Недавно в издательстве «Художественная литература» вышел трехтомник Скотта Фицджеральда.
***
С разной скоростью течет литературное время — иногда счет идет на десятилетия, а порой на годы, чуть ли не на месяцы. Хемингуэй, Фолкнер, Дос Пассос, Вулф, Фицджеральд — люди одного поколения, их дебюты состоялись почти одновременно, с интервалом в несколько лет. В историко-литературной перспективе такие интервалы обычно стираются, стерлись они и в этом случае, но полвека назад, когда только создавалось то, что сейчас стало историей, даже небольшое опережение было многозначительным.
Скотт Фицджеральд был первым в блестящей плеяде молодых американских писателей 20-х годов, и его книги, его опыт, творческий и человеческий, входили, иногда непрямыми, отдаленными путями, в поиски современников. Хемингуэй, при всей неоднозначности, а порой и несправедливости отношения к Фицджеральду, прямо говорил о том, чем обязан ему, Томас Вулф спорил с ним о принципах творчества, но и он, описывая жизнь нью-йоркской богемы (вспомним хотя бы одну из лучших глав переведенного у нас романа «Домой возврата нет» — «Прием у семейства Джек»), шел путем, уже испытанным автором «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна». И даже Фолкнер, художник, бесконечно далекий от Фицджеральда, глубинно связан с ним: все в том же «Великом Гэтсби» исследуется проблема, из которой впоследствии выросла вся проза Фолкнера, — мучительная связь прошлого и настоящего.
Недолгая яркая жизнь Фицджеральда в искусстве может, пожалуй, служить выразительной иллюстрацией к теме «Судьба таланта в Америке». При всей своей незаурядной одаренности он не обладал достаточной нравственной сопротивляемостью идеологии и морали буржуазного Успеха. Положим, не обходилось без преувеличений: говорили, например, о романтическом восторге, который вызывали у писателя «очень богатые люди». И уж вовсе вошло в обычай именовать Фицджеральда певцом «века джаза», этой «самой дорогостоящей оргии» американской истории, когда культ процветания, последовавшего за первой мировой войной, мощно захватил воображение людей, принадлежавших к самым разным общественным слоям.
Это несправедливо. Не хуже других Фицджеральд видел духовные пустоты «джазовой» истерии. Но откуда же тогда эта трезвая, порой чрезмерно жесткая этическая самокритика, которой отличается публицистика Фицджеральда 30-х годов — поры, когда нация переживала период тяжелого отрезвления, когда на смену недолговечному процветанию пришел глубокий кризис? Откуда этот постоянный спор с самим собой?
Мишурный мир богемы отталкивал и притягивал писателя одновременно. Из этой двойственности и вырастет эмоциональная, порой трагическая напряженность прозы Фицджеральда. По сути дела, в ней разрабатывается один и тот же конфликт: столкновение творческого сознания с условностями буржуазной действительности, жизни подлинной с жизнью мнимой.
В раннем романе «По эту сторону рая» подобный конфликт только завязан — принстонский студент Эмори Блейн слишком прочно еще заключен в оболочку стандарта. Последняя глава романа, правда, названа «Эгоист становится личностью» — герой, пережив разочарование в идеалах молодости, разрыв с любимой девушкой, не готовой делить с ним испытания реальной жизни, пытается нащупать новые пути… Но этот перерождающийся герой психологически мало убедителен.
Иное дело — врач-психиатр Дик Дайвер, герой романа «Ночь нежна». Человек выраженного аналитического склада ума, он постоянно ощуща ет, что «полнота существования», истинное творчество невозможны в том круге «очень богатых людей», среди которых проходит его жизнь. Иллюзий у него нет — пусть не столь отчетливо, как сам автор, но и он видит паразитическую основу жизни «таких, как Николь», его жена; иллюзий нет, однако преодолеть инерцию он не в состоянии. Вернее — он рвет с привычным слишком поздно, когда творческий порыв уже иссяк. Личность, по существу, исчезла. И в поражении этом, в том, как оно изображено автором, куда больше правды, нежели в бодром превращении Эмори Блейна.
Наконец, Монро Стар — голливудский продюсер, центральная фигура оставшегося незаконченным романа «Последний магнат». Здесь все тот же конфликт обретает окончательную социальную отчетливость борьбы двух начал в душе одного человека — дельца против творца.
***
Менялись выходные данные романов и новелл — 1920 год, 1925-й, 1934-й… Но все время Фицджеральд возвращается к безумному карнавалу 20-х годов, к той узкой области жизни, которую знал и изучил наилучшим образом. Нет принципиальной разницы между студенческим городком Принстона, средиземноморскими курортами романа «Ночь нежна», голливудскими студиями «Последнего магната».
В очерке о своем друге, тоже знаменитом в 20-е годы писателе Ринге Ларднере, Фицджеральд заметил: «…какие бы диковинки Ринг ни умудрялся откопать, роясь на участке, который возделывал, сам-то участок был по размерам не больше бейсбольной площадки».
Это проблема не одного только Ларднера. В литературе США всегда было развито так называемое «чувство места» — подробно выписанный быт. тщательно вылепленные характеры, остававшиеся в границах сиюминутной достоверности. Видны городки Новой Англии, фермерский пейзаж Среднего Запада, пышная природа Юга — но не чувствуется большого мира. Такая замкнутость — прав Фицджеральд — отчасти свойственна прозе Ларднера. Она ограничивала и -многие превосходные таланты американской «южной школы».
Похоже, и самому Фицджеральду не всегда удавалось преодолеть локальное содержание «сказок джазового века». Но однажды по крайней мере он набрал подлинную высоту дыхания, вышел за пределы возделываемого им участка, и получилась вещь замечательная, роман, ставший классическим. Я говорю, конечно, о «Великом Гэтсби».
Что, впрочем, значит — вышел за пределы? Перед нами ведь привычные картины «века джаза» — роскошные виллы на Атлантическом побережье Америки, все тот же стиль жизни.,. Однако проблематика этой маленькой и такой емкой книги оказывается много богаче её событийной канвы.
Мера художественной глубины повествования задана фигурой героя, чье имя вынесено на обложку романа. Гэтсби — человек своего времени, жертва социальных условностей. Выходец из небогатой фермерской семьи, офицер американской армии, он так и не сумел стать «своим» в кругу золотой молодежи. Умен, обаятелен, но не хватает ни денег, чтобы поддерживать определенный стиль жизни, ни той особой «ауры», по которой сразу распознают «своих». И наоборот — слишком много серьезной основательности, чтобы беззаботно принять сложившиеся правила игры. Быть может, потому и не дождалась его с войны Дэзи, в которую он безоглядно влюбился, — сказывался инстинктивный страх перед настоящей жизнью, даром которой был наделен провинциал со Среднего Запада.
Потом пришла пора реванша. Сомнительные сделки, в которые пустился Гэтсби после войны, были для него не просто способом обогащения, — казалось, завоевывается независимость человеческая, открываются двери в тот мир. который когда-то его оттолкнул. Но здесь-то и крылось тяжкое заблуждение — путь к богатству и мнимой независимости чреват был духовной гибелью. Смерть физическая при всей своей нелепости лишь подтвердила непреложность этого факта.
***
Долго сомневались и спорили — почему великий Гэтсби? Какое может быть величие у профессионального бутлегера, у человека столь вульгарных манер? Вспомнить хотя бы жутковатую сцену, когда Гэтсби в каком-то пароксизме страсти демонстрирует вновь встреченной Дэзи великолепие своего гардероба. Но не зря еще в самом начале книги фигура Гэтсби словно раздваивается, лишается четкого контура. Он воплощает все то, что «презирает» Ник Каррауэй, герой-повествователь романа: пошлость, буржуазный обман и практицизм: в то же время «в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни… редкостный дар надежды, романтический запал…» Заявленный объем выдерживается во всем развороте действия: за ничтожеством существования, смысл которого можно выразить в цифрах годового дохода и квадратных футах роскошного особняка, открывается иное измерение, иной образ.
Как герой «джазового века», Гэтсби только «велик». Как художественный символ духов-ной истории Америки, он под линно значителен.
Если счистить шелуху корысти, обмана, плотным панцирем покрывших душу героя, обнаружится лик невинного человека, как, говорят, «американского Адама», впервые открывающего мир «великих возможностей», свято верующего в их осуществимость. В финале книги эта мысль высказана прямо: «Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки… И в одно прекрасное утро…»
Но Джей Гэтсби — далеко не куперовский Натти Бумпо и не Гек Финн, собирающиеся сбежать на «индейскую территорию» к западу от Миссисипи. «Американский Адам» потерял свою невинность. Герой Фицджеральда — порождение буржуазной цивилизации, которая стремительно утрачивала человека как высшую меру и цель жизни.
Роман, по существу, именно об этом — о гибели Мечты, о крахе тех высоких иллюзий, которые питали первые строители нового, как они с прекрасной наивностью полагали. Дома человечества.
Книга лишена угрюмого пессимизма, модернистского ощущения конца вселенной, ибо в ней присутствует стойкое человеческое начало: автор ведь не просто равнодушный наблюдатель, он с сердечной болью переживает конец самой долговечной традиции национальной истории.
«Великий Гэтсби» мог стать и книгой новых начал — ведь только один шаг отделяет признание тупика от поисков иных путей жизни. Правда, шаг этот — самый трудный, и Фицджеральду так и не довелось его сделать (кое-что в этом смысле обещал Ник Каррауэй, самая, пожалуй, близкая автору фигура; но образ этот дальнейшего развития в творчестве писателя не получил).
Прорывы к иным высотам осуществлял уже не Фицджеральд, а другие художники, те, что лучше понимали Америку и мир следующего, грозового десятилетия 30-х годов. Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй, Вулф. Но при этом историческая необходимость Фицджеральда остается непоколебимой: в его книгах с особенной силой столкнулись высокая истина и горькая действительность. Без суровой и поэтической правды «Великого Гэтсби» трудно себе представить дальнейшее движение литературы США в XX веке.
Опубликовано в издании: Литературная газета, 13 декабря 1978 г. № 50, (с.15).